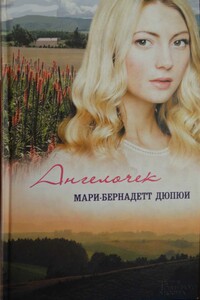Ненависть | страница 2
Но на самом деле все не так просто. Это постоянное составление хроник и своего рода славословий не является моим осознанным выбором. Иногда я пытаюсь отмотать пленку на двадцать недель назад, вспомнить время, когда ты была только идеей, чем-то, что лишь грезилось нам в темноте бессонных ночей. Но даже тогда — в том мире-до-тебя — мне хотелось сохранить в памяти всех нас, сделав в ней нестираемыми. Это единственный способ, гарантирующий, что ни один период времени не исчезнет из нее. Ты всегда сможешь найти меня здесь, на этих страницах, даже когда меня уже не будет.
И, по правде говоря, кто знает, сколько мне еще осталось? Мы, женщины семьи Пратт, никогда не славились долголетием.
Но сейчас речь не об этом, ведь не важно, уйду ли я в сорок три года или в восемьдесят три, — ты все равно многое забудешь обо мне. В этом заключается благословение и проклятие потерь: ты сама не можешь выбирать, что именно растворится в твоей памяти, а что задержится и будет приходить по ночам в твою голову, отягощенную воспоминаниями, пока твоему мужу снится, как он штурмует очередные мужские вершины под латексной защитой презерватива.
О моей собственной матери, в честь которой мы тебя назвали, почти ничего не известно, кроме каких-то банальных эпизодов ее жизни; ее образ сохранился по прихоти нескольких случайных фотографий. Впрочем, не так много потеряно и упущено; больше искажено и отфильтровано. И хотя я часто нахожу утешение в этой отретушированной копии той женщины, какой она когда-то была на самом деле, в такие ночи, как сегодня, я очень скучаю по реальному человеку.
Реальному. Из мяса и костей.
Возможно, последствия потери — крупицы воспоминаний — каким-то образом пугают меня больше, чем сама утрата. Если честно, я никогда не училась кататься на велосипеде, помимо прочего, еще и потому, что этого потом нельзя будет забыть. Я — такая, одновременно страстно жажду и боюсь оков памяти. Есть забывание, постепенное, по частям, стирание памяти, и есть невозможность забыть, словно в душе остался некий заскорузлый слоистый рубец. Меня по-своему терзает и то, и другое.
Ты уже никогда не встретишь человека, которым я являлась раньше, до тебя, когда я была всего лишь собою на свой уникальный манер. Но это наследие в такой же степени твое, как и мое: история о там, как стало возможным твое появление на свет, история о нас с тобой.
И теперь, когда твой портрет висит на холодильнике, а я должна сыграть роль русской матрешки, теперь, когда для меня не будет жизни в этом мире без тебя, я касаюсь всего, что могу сохранить. Это история о том, как мы стали семьей, — о твоем папе и обо мне, о Рут и дедушке Джеке, о моем собственном отце, который сейчас тоже проснулся и собирает детскую кроватку с розовой отделкой. Это история о разделительной черте, которую я люблю, которой живу и о которой скорблю, о границе между «помню» и «забыл», ограничением и свободой, между тем, кого оставили, и тем, кто ушел.