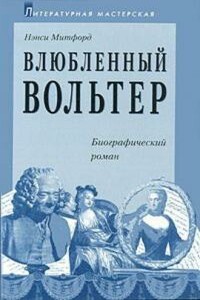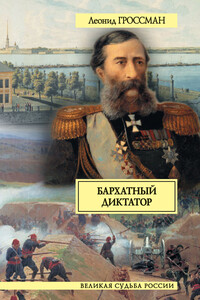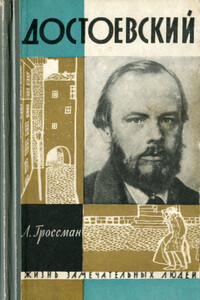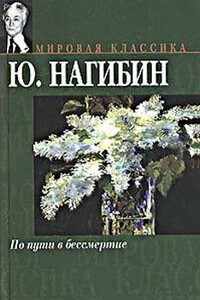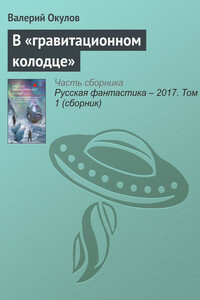Цех пера: Эссеистика | страница 46
Когда в Вербное воскресенье 1849 года Рихард Вагнер закончил в дрезденском театре дирижирование девятой симфонией, в оркестре появился незнакомец огромного роста с тяжелой головой и львиной гривой.
— Если бы в предстоящем мировом пожаре, — заявил он Вагнеру, — вся музыка была обречена на гибель, мы с опасностью для жизни должны были бы отстоять эту симфонию.
Это был Михаил Бакунин, тайно от полиции присутствовавший в Королевском театре. Он сразу поразил Вагнера. Капельмейстер саксонского двора поторопился сблизиться с русским анархистом, ожидая откровений об искусстве будущего от этого провозвестника новой исторической эры.
Но Бакунин не хотел слушать о музыке. Пафос разрушения угашал в нем интерес к творчеству. Бетховен ему был нужен лишь как возбудитель толп к восстанию. Увертюра к «Летучему голландцу», сыгранная ему однажды Вагнером, не могла поколебать его неприязни к искусству. Он по-прежнему не желал слышать о «Нибелунгах», он умолял не знакомить его с мистерией о Назареянине. Будущий творец «Парсифаля» был поражен этим разрушительным натиском бунтарских идей, потрясавших все оплоты его верований. Перед ним в одном лице впервые воплощалась борьба двух стихий: искусства и революции.
Этот роковой антагонизм неизбежно сказывается в момент каждого государственного переворота. Лозунги разрушения никогда не совпадают с волей к творчеству. В грохоте перестроек смолкают одинокие голоса созерцателей и духовидцев. Каждый политический взрыв несет в себе угрозу накопленным ценностям творческой культуры и на время парализует источники ее дальнейшего роста.
Это остро ощущал Тютчев. В последовательных взрывах 1848 г. его сильнее всего поразил этот ужасный вид «цивилизации, убивающей себя собственными руками». Безмолвный, потрясенный и бессильный он присутствовал при этом самоубийстве европейской культуры.
Полнее других он должен был чувствовать трагизм происходящего. Тютчев был, конечно, одним из культурнейших умов своего поколения. Он не пропустил ни одного случая пополнения и обогащения своих знаний. Книги, люди, путешествия, музеи — все это обильно питало его любознательность. «Не получить каждое утро новых газет и новых книг, не иметь ежедневного общения с образованным кругом людей, не слышать вокруг себя шумной общественной жизни было для него невыносимым», свидетельствует его биограф.
Он чрезвычайно много читал. Несмотря на вечную перегруженность спешной работой, он всегда уделял свои утра чтению. Все замечательные новинки русских и европейских литератур сменялись на его ночном столике вместе с последними книжками журналов.