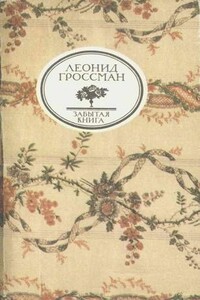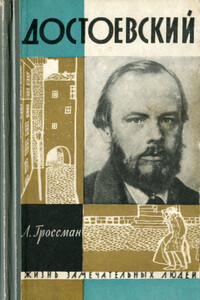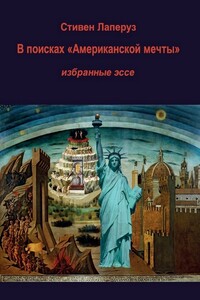Цех пера: Эссеистика | страница 36
От звездного неба и ночного океана Тютчев часто отводил свои взгляды к географической карте современной Европы. Созерцатель надмирного и вечного в своих творческих видениях, он силою жизненной судьбы стал внимательным наблюдателем всех треволнений текущей истории. Этот маг, астролог и тайновидец в свои обычные часы был дипломатом, политиком и царедворцем. Сумрак мировых тайн не заслонял перед ним тонких и хрупких нитей, сплетающих пряжу проносящейся современности, а тревожные колебания государственных границ глубоко волновали этого вещего созерцателя потустороннего. Рядом с Сведенборгом в нем уживался Талейран. Из кабинетов заграничных посольств и канцелярий петербургских министерств он зорко следил за опасной игрой правительственных или династических интриг, кидающих целые нации в яростную горячку взаимных истреблений. И глубоко взволнованный этим трагическим турниром венценосцев, послов и министров, он часто рифмованными строфами набрасывал свои негодующие или иронические замечания на поля шифрованных депеш и политических передовиц.
Он дал свой творческий отзвук. Текущая политика имела для Тютчева свой фатум и свой пафос. Не одни только «демоны глухонемые» небесных гроз зажигали его вдохновение, но и все проносящиеся события текущего исторического часа. Голос Клио всегда в нем будил Полигимнию. Стоя у самого источника политических катастроф, видя первое зарождение человеческих волн, смывающих правительства и режимы, он из этой лаборатории современной истории откликался на все ее голоса. И часто на еле вспыхивающие зарницы и далекие ропоты надвигающихся бурь он отвечал дрогнувшей медью своих строф, как электроскоп, трепещущий перед грозой своими золотыми лепестками.
До конца эти острые углы проносящейся современности глубоко задевали и ранили его. Бесконечной грустью веет от рассказа о его последних днях. В Царском Селе, где Тютчев так любил в осенних сумерках следить за беззвучным летом призраков минувшего над гаснущим стеклом озер и порфирными ступенями екатерининских дворцов, старый друг застал его в плачевнейшем состоянии. Это были те
когда кажется, что все отнято казнящим Богом у отходящего от жизни, кроме последнего сознания измученности, беспомощности и скорого уничтожения.
Паралич вершил свое беспощадное дело, и предсмертное разложение шло полным ходом. Половиной тела Тютчев совершенно не владел, он не мог писать, мозг изнемогал от сверлящей боли, центры речи были поражены, и некоторые звуки он уже затруднялся произносить. Еще несколько дней — и он не сможет исповедываться: отнимется язык, и умирающий свершит только глухую исповедь. Но пока дар слова еще не окончательно отнят у него, Тютчев по-прежнему весь в треволнениях современности. «Голова свежа, — замечает посетитель, — поговорили о литературе, о Франции…»