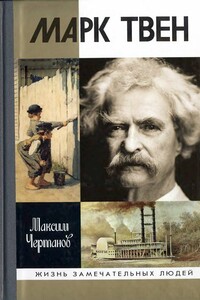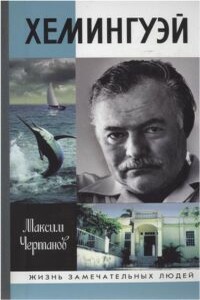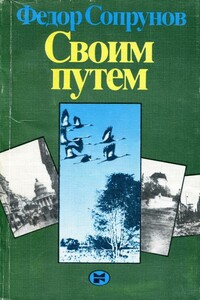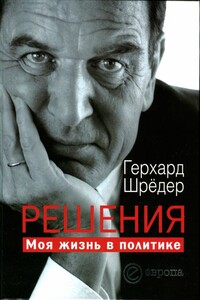Диккенс | страница 87
При всей симпатии к рабочим Диккенс рабочих вожаков любого рода — профсоюзных ли, чартистских ли — почему-то не терпел и над Тэппертитом поиздевался вволю. В данном случае он, впрочем, соблюдал историческую правду: мятеж Гордона был реакционным, и Тэппертит олицетворяет приверженность не новым, а старым порядкам: «Мистер Тэппертит объяснил ему, что… подмастерьям в былые времена жилось привольно: им очень часто предоставлялись свободные дни, они разбивали головы десяткам людей, не повиновались хозяевам и даже совершили несколько знаменитых убийств на улицах. Но постепенно все эти привилегии у них отняли, и теперь они ограничены в своих благородных стремлениях. Столь позорное и унизительное ограничение их прав, несомненно, — следствие новых веяний, и вот они объединились для борьбы против всяких новшеств и перемен, за восстановление добрых старых обычаев и будут бороться, чтобы победить или умереть».
«Старых добрых обычаев» Диккенс вообще не переносил и, опять-таки соблюдая справедливость, написал в пару к Тэппертиту антибунтовщика — судью, обижающему добрых бедняков, — который тоже тянется к старине: «Его называли и „славным провинциалом старого закала“, и „образцом джентльмена“, а иные твердили, что он — „истый британец“, „подлинный Джон Буль“. И все единодушно сходились на том, что, к сожалению, таких людей теперь мало и потому страна быстро идет к разорению и гибели. Он был горячим приверженцем церкви и государства и в свой приход допускал только таких священников, которые могли выпить три бутылки, не поморщившись, и отличались в охоте на лисиц».
Четвертым персонажем-мятяжником стал классический диккенсовский, сам с собою разговаривающий, злодей: палач-садист Деннис. «Так что понимаете, мистер Гашфорд, — тут палач свирепо потряс своей палкой, — на мое протестантское ремесло посягать нельзя, нельзя менять наши протестантские порядки, и я на все пойду, чтобы этого не допустить. Пусть паписты и не пробуют сунуться ко мне — разве что закон отдаст их мне в обработку. Рубить головы, жечь, поджаривать — всего этого быть не должно. Только вешать — и делу конец. Милорд недаром говорит, что я — парень усердный: чтобы отстоять великие протестантские законы, которые дают мне работы вволю, я готов, — он стукнул палкой о пол, — драться, жечь, убивать, делать все, что прикажете… Долой папистов! Клянусь дьяволом, я истинно верующий!»
Пятый — слабоумный юноша Барнеби, в отличие от слабоумного Смайка из романа «Жизнь и приключения Николаса Никльби», почему-то изъяснявшегося как лорд, живой и невыразимо прелестный, во всяком случае с точки зрения его матери: «Ведь для Барнеби жизнь была полна радостей, каждое дерево, каждая травка, цветок, каждая птица, животное, крохотное насекомое, сброшенное на землю дуновением летнего ветерка, приводили его в восторг, — а его радости были ее радостями. Сколько разумных сыновей приносят только горе своим матерям, а этот бедный, беспечно-веселый дурачок наполнял ее сердце лишь благодарностью и любовью». И ворону Диккенса нашлось место: