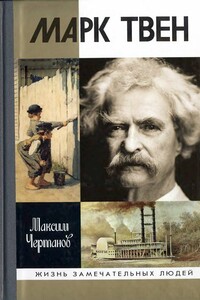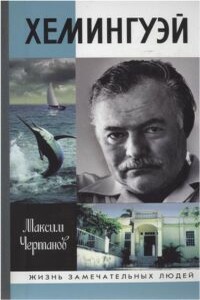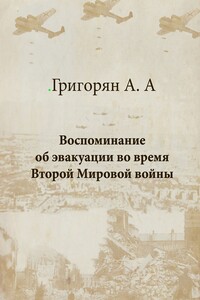Диккенс | страница 65
Диккенс с его морализаторской мстительностью, может, и хотел позлорадствовать над Сайксом, но его же изобразительный дар его поборол: страдание показано «изнутри», и читатель отождествляет себя со страдающим, хотя тот и подонок. Удивительная психологическая деталь: лежа в сарае, Сайкс видит поблизости пожар и, так как ему необходимо чем-то себя занять и быть среди людей, бежит со всеми его тушить, работает как проклятый и тем отвлекается — но потом вновь наступают муки; он возвращается в Лондон и погибает, преследуемый толпой, нечаянно удушив себя веревкой, с помощью которой надеялся бежать. И снова гениальная деталь: «Собака, до той поры где-то прятавшаяся, бегала с заунывным воем взад и вперед по парапету и вдруг прыгнула на плечи мертвеца. Промахнувшись, она полетела в ров, перекувырнулась в воздухе и, ударившись о камень, размозжила себе голову».
Но есть еще один злодей, он тоже должен получить свои муки, и получает их, и мы ощущаем эти муки также «изнутри», как собственные:
«Он [Феджин] стоял в лучах света, одну руку опустив на деревянную перекладину перед собой, другую — поднеся к уху и вытягивая шею, чтобы отчетливее слышать каждое слово, срывавшееся с уст председательствующего судьи, который обращался с речью к присяжным. Иногда он быстро переводил на них взгляд, стараясь подметить впечатление, произведенное каким-нибудь незначительным, почти невесомым доводом в его пользу, а когда обвинительные пункты излагались с ужасающей ясностью, посматривал на своего адвоката с немой мольбой, чтобы тот хоть теперь сказал что-нибудь в его защиту… Он пристально всматривался в их лица, когда один за другим они выходили, как будто надеялся узнать, к чему склоняется большинство; но это было тщетно. Тюремщик тронул его за плечо. Он машинально последовал за ним с помоста и сел на стул. Стул указал ему тюремщик, иначе он бы его не увидел. Снова он поднял глаза к галерее. Кое-кто из публики закусывал, а некоторые обмахивались носовыми платками, так как в переполненном зале было очень жарко. Какой-то молодой человек зарисовывал его лицо в маленькую записную книжку. Он задал себе вопрос, есть ли сходство, и, словно был праздным зрителем, смотрел на художника, когда тот сломал карандаш и очинил его перочинным ножом. Когда он перевел взгляд на судью, в голове у него закопошились мысли о покрое его одежды, о том, сколько она стоит и как он ее надевает. Одно из судейских кресел занимал старый толстый джентльмен, который с полчаса назад вышел и сейчас вернулся. Он задавал себе вопрос, уходил ли этот человек обедать, что было у него на обед и где он обедал, и предавался этим пустым размышлениям, пока какой-то другой человек не привлек его внимания и не вызвал новых размышлений. Однако в течение всего этого времени его мозг ни на секунду не мог избавиться от гнетущего, ошеломляющего сознания, что у ног его разверзлась могила; оно не покидало его, но это было смутное, неопределенное представление, и он не мог на нем сосредоточиться. Но даже сейчас, когда он дрожал и его бросало в жар при мысли о близкой смерти, он принялся считать железные прутья перед собой и размышлять о том, как могла отломиться верхушка одного из них и починят ли ее или оставят такой, какая есть. Потом он вспомнил обо всех ужасах виселицы и эшафота и вдруг отвлекся, следя за человеком, кропившим пол водой, чтобы охладить его…»