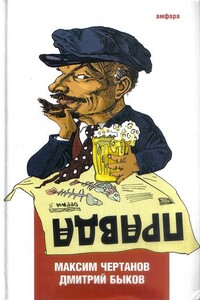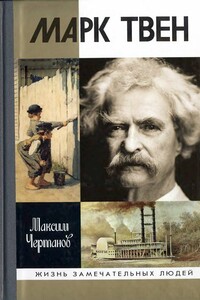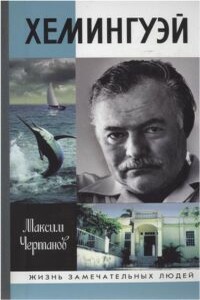Диккенс | страница 53
И началось вечное счастье: «Мистер Пиквик живет в своем новом доме, посвящая часы досуга приведению в порядок своих записок, — впоследствии он презентовал их секретарю некогда знаменитого клуба, — или слушая, как Сэм Уэллер читает вслух и сопровождает чтение приходящими ему на ум замечаниями, которые неизменно доставляют мистеру Пиквику величайшее удовольствие… Нередко можно видеть, как он любуется картинами в даличской галерее или прогуливается в ясный день по живописным окрестностям… и куда бы он ни ездил, его неизменно сопровождает верный Сэм, связанный со своим хозяином крепкой взаимной любовью, конец которой может положить только смерть».
Какая-то «обломовщина», правда? Сладкое, даже слащавое ничегонеделание — немного удивительно, что такой способ завершения почти всех своих книг выбирал человек, сам живший одной работой, крутившийся как белка в колесе и не раз говоривший, что лишь такой образ жизни ему подходит. (Из письма Форстеру 13 апреля 1856 года: «…работать не покладая рук, никогда не быть довольным собой, постоянно ставить перед собой все новые и новые цели, вечно вынашивать новые замыслы и планы, искать, терзаться и снова искать, — разве не ясно, что так оно и должно быть! Ведь когда тебя гонит вперед какая-то непреодолимая сила, тут уж не остановиться до самого конца».)
Честертон: «Диккенс был скорее мифотворцем, чем писателем, — последним и, должно быть, величайшим. Ему не всегда удавалось создать человека, но всегда удавалось создать божество. Его персонажи — как Петрушка или Рождественский Дед. Они живут, не меняясь, в вечном лете истинного бытия. Диккенс и не думал показывать влияние времени и обстоятельств на человеческую душу; он не показывал даже, как душа влияет на время и обстоятельства… Конечно, „Пиквик“ нельзя назвать хорошим романом, нельзя назвать и плохим — это вообще не роман. В определенном смысле он лучше, чем роман. Ни одному роману с сюжетом и развязкой не передать этого духа вечной юности, этого ощущения, что по Англии бродят боги. Это не роман, у романов есть конец, а у „Пиквика“ его нет, как у ангелов».
Да, наверное… а все же Илья Ильич Обломов нам как-то роднее и симпатичнее, хоть и не ангел и не бог… С ним бы мы посидели и поболтали, а с мистером Пиквиком — вряд ли, уж очень он какой-то «закругленный», благополучный, гладкий… И с «вечной юностью» уж никак не ассоциируется… Так читать нам «Пиквика» или не стоит? Надо бы, конечно, но в нашем списке мы, пожалуй, поставим его ближе к концу. Современному человеку привыкать к Диккенсу лучше с других вещей.