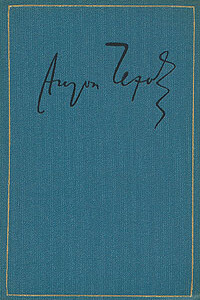Письма к Василию Розанову | страница 30
жертвую вам на растерзание, но посвящение Филиппову — нет, нет и нет! Вы не знаете, что значил для меня этот человек в течение 10 и более лет. Ведь нельзя же дойти до такой ненормальности, чтобы писать только для себя, а я некоторые подобия откликов стал слышать только лет 6–7 тому назад. Только у Филиппова я уже с начала 70-х годов видел и ясное понимание моих целей[44], и горячее, твердое, деятельное участие. Не позволительно быть неблагодарным.
7. О моем влиянии на реакционные реформы.[45] Разве метеоролог, верно предсказывающий погоду, имеет на нее сам влияние? Если врач сам больного не лечит и на консилиум не приглашается, но знает, как идет болезнь, и понимает заранее, что нужно делать, то когда случится, что и другие врачи попадут на те же лекарства и сделают пользу, — разве этот посторонний врач может сказать про себя, что имел «влияние»? Конечно, нет. Он может считать себя очень дальновидным, пророком, гением даже; но никак не влиятельным лицом. В государствах, еще не обреченных на скорую гибель, государственные люди, вовсе даже и не гениальные, доходят до нужного одним эмпирическим тактом, как доходили без правильных теорий старые врачи. Дезинфекцией занимались не без успеха и прежде открытия микробов, бацилл и т. д.
Я уверен, что ни Государь, ни покойный Дм. Андр. Толстой, ни даже Ив. Давыд. Делянов ни разу не говорили себе: «на основании закона триединого процесса развития и из страха предсмертного смешения сделаем то-то и то-то». Ибо, если бы они смешения этого вполне сознательно боялись, то, хлопоча усердно и основательно о православии для эстов и латышей (это нужное единство), не вводили бы французских судов на русском языке в Остзейском крае (это вредное однообразие, смешение), а если какой-нибудь граф, барон, бургомистр, предводитель немецкого дворянства или пастор оказал бы сопротивление православию на их туземных языках, то ссылали бы его в Сибирь или хоть в Вятку без околичностей. Поймите, прошу вас, разницу: русское царство, населенное православными немцами, православными поляками, православными татарами и даже отчасти православными евреями, при численном преобладании православных русских, и русское царство, состоящее, сверх коренных русских, из множества обруселых протестантов, обруселых католиков, обруселых татар и евреев. Первое — созидание, второе — разрушение. А этой простой и ужасной вещи до сих пор никто ясно не понимает… Мне же, наконец, надоело быть гласом вопиющего в пустыне! И если Россия осуждена, после короткой и слабой реакции, вернуться на путь саморазрушения, что, «сотворит» один и одинокий пророк? Лучше о своей душе побольше думать, что я с помощью Бога и старца и стараюсь делать… Моя душа без меня в ад попадет, а Россия, как обходилась без моего влияния до сих пор, так и впредь обойдется. Пусть гипотеза моя есть научное открытие и даже великое, но из этого еще не следует, что практическая политика в 20-м веке пойдет сообразно этому закону моему. Общественные организмы (особенно западные), вероятно, не в силах будут вынести ни расслоения, ни глубокой мистики духовного единства, ни тех хронических жестокостей, без которых нельзя ничего из человеческого материала надолго построить. Вот разве союз социализма («грядущее рабство», по мнению либерала Спенсера) с русским Самодержавием и пламенной мистикой (которой философия будет служить, как собака) — это еще возможно, но уж жутко же будет многим. И Великому Инквизитору позволительно будет, вставши из гроба, показать тогда язык Фед. Мих. Достоевскому. А иначе все будет либо кисель, либо анархия…