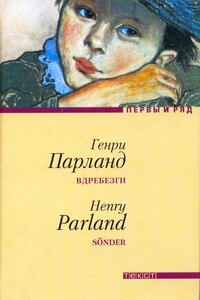Степная книга | страница 8
Я покрылся гусиной кожей и фыркал назло толстогубому. После пытки ледяной водой солдат выдал мне черные большие трусы. Трусы налипли на меня, а потом и пижама с майкой - жались ко мне сиротками, не отпускали. В них стал я невесомым и маленьким - штаны по колено, куртка по локоток. Взлетая по крутым ступеням, я набирал злую скорость, летел и санитары чахло отпадали от меня. И уже я ничего не помню. Сплю на лету. Ведь я больной, и врачам надобно меня лечить.
Укол делают и лечу высоко над миром. Парю так высоко, что он, после долгой бессонницы, надолго уже не потревожит моего сна. А когда перестанут делать уколы, я ступлю на грешную землю, я отправлю в еще немеющий рот ложку горячего супа, как вселенское послание, как пилюлю от одиночества заскучавшему организму. Речь покуда изменяет мне, но это головокружение от полета высоты, ибо познавшему невесомость нелегка тяжесть земли. Поэтому и на ногах поначалу я буду стоять некрепко - буду шататься, буту ходить по стенке, учась как ребенок, приобретая потерянный в полете дар.
Все солдаты ходили молчаливо в тех сиротских пижамах как проклятые. Получив свою пижаму, укол, порцайку, я решил погулять по лазарету, да знакомцев поискать из Учкудука. В прогулочном дворе никто не прогуливался, а все ели яблоки, с яблонь, что росли дико кругом. Во дворике было зелено, а от зелени - прохладно. Присел и я поесть яблок. Дервишами забредали на двор госпиталя воробьи. Их пыльные хохолки походили на обмякшие чалмы, а чириканье на бормочущее моленье. Воробьи падали на колени и клевали головами. Повздыхал я, повздыхал без дела и мне вручили веник. Я был должен подметать дорожки в саду. Подметать дорожки в саду приятнее, чем мыть полы, когда посыпают мыльной крошкой, да выплескивают для пущей охоты ведро воды под ноги. Злясь на кого-то, я размахал веником пылищу. Сад от пыли стал сумрачней. Разлетелись воробьи, оставляя по себе скорбные облачка. Мерить жизнь днями года я трусливо боюсь. Я живу тяжко. Я не хочу верить, что это моя вина. Я говорю себе - это старое, и мету со двора пыль.
Так я засыпал. Отдыхал, напылив в садике, вдыхая уже покойно яблоневый дух, умирая и рождаясь заново. На скамейку подле меня присел Войшек - и он больной, в пижаме. Я был рад ему - не курящий, не ругающийся матом. Я помнил его еще в аэропорту, он был самый тихий из тех людей. Помню, как мы стояли голые на распредпункте. Глядеть на голых было боязно. Меж раскрасневшихся, боязливых лиц я приметил одно, будто побелевшее и заиндевелое. Это и был Войшек. Больное изваяние природы, черты которого округлы, как капли, а капли отягощены скорбью и мерцают иссини- теплым, обуглившимся светом. Он был похож на некрасивую добрую женщину. Глаза, готовые вот-вот пролиться, набухшие, влажные. Эти глаза жили сами по себе, будто не принадлежали одутловатому, лягушачьему телу, изувеченному от рожденья хромотой. Вокруг глаз, и на лбу, цвели морщинки. Он был старый или явились морщины эти от тяжких его, скорбных раздумий. Лягушка зябла, скукоживалась под чужими взглядами, а лицо и глаза скорбели, горевали, нависая над всем этим тщедушным человеком, будто плач.