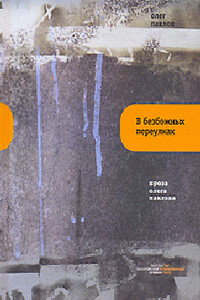Антикритика | страница 21
1996 ГОД
В начале этого года я возражал Павлу Басинскому в "Вопросах литературы", что участвуем мы не в карнавале литературном, как он выразился, а в борьбе. То, что он написал по поводу романа Королева и на что Агеев из "Знамени" и в той же "Литературке" ответил ему своими статьями - посчитал этой честной, наконец-то, и по ясным художественным вопросам борьбой. Однако, как обнаружилось, я поспешил уверовать в честность да открытость в литературе - и разуверил меня не Басинский, но Агеев, своей статьей-постановлением о новом отечественном альманахе "Реалист".
Новой была попытка его редактора, Юрия Полякова, объединить поэтов, критиков, писателей, ранее разобщенных смутным нашим временем - и художники объединились, отвечая за себя своими прозой, стихами, статьями. Это были Можаев, Киреев, Турбин, но и Шипилов, Сегень. Молодые, как Владимир Березин, и архаичные, как Лихоносов. Советские, как Проскурин, и такие в прошлом инакомыслящие, как Юрий Кублановский, Мамлеев. Это был альманах о б щ е й литературы, в том смысле и отечественный, что общий.
Теперь, после "Реалиста", рождается с тем же замыслом журнал "Ясная Поляна", задуманный уж не Поляковым и Петровым, а Анотолием Кимом и братьями Толстыми, ожог наш стягивается. Но дело в том, оказывается, что в "Знамени" никогда не напечатают Шипилова или Личутина за их убеждения - заявил нам Агеев своей статьей...
Это право журнала, иметь угодный ему вид, но отчего ж тогда обвинять этому журналу в бездарности и отчитывать как за плохое поведение тех, кто хочет печатать Личутина, Шипилова или не стыдится объединиться с ними в прозе? Если б Агеев высказался об этом альманахе как о явлении художественном, но ему чуждом - это и было б честно, понятно, насильно мил не будешь. Если б смолчал, было б еще понятней, привычней. Однако критик не жалеет ни времени, ни красноречия, чтобы заклеймить нечто, даже не имеющее никакой общей идеи, потому что и объединялись только способности литературные, а не идейные взгляды. Только мне думается, что не заединщиков обвинял в бездарности из "Знамени" Агеев, а другую литературу - не элитарную, а отечественную; и та художественная широта, от Астафьева до Пелевина, что представляется нам как достижение этого журнала - на деле есть соединение художественно несоединимого, что и случилось, когда отечественная литература лишилась подлинной своей широты и когда писатели стали вынуждены приспосабливаться под узкие партийные мирки журналов. В этих мирках делили поначалу писателей на чистых и нечистых, а потом значение приобрели именитость, завлекательность, броскость - только не художественная ценность прозы. Все выше исчисленное - это экспортный вариант русской литературы, который мы имеем сегодня и который пытаются выдать за подлинный, устраняя из внимания и сознания нашего целое собрание отечественных талантливых авторов, отказываясь воспринимать их творчество как значимое, постановляя - всем сверчкам по шесткам!