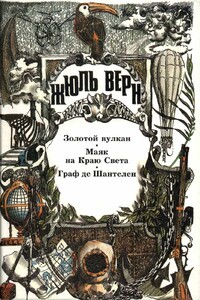Антикритика | страница 15
Сильным в литературе, и уж давно, сделалось зло. И я тут говорю не о нравственном и безнравственном, духовном и бездуховном, а понимаю, что зло выросло в форму именно духовности и что усиливается как эстетически неподсудное, то есть прекрасное. У демагогии уж и не сила, а мощь: все не свято - и все возможно. Но выходит и так, что силой, уродующей литературу, оказывается именно бессилие понять и отстоять действительные ее ценности, достижения.
Писали же весь год о Маканине, и я его читал - "Кавказского пленного". То, что происходило вокруг этого рассказа и сам рассказ, выделенный не иначе как масштабное произведение, потрясло меня или, сказать иначе, изменило само мое отношение - и к Маканину, и к нашей литературной обстановке, а также и ко многим критикам: ко всему, кого и что воспринимал до того иначе и всерьез.
Всерьез я относился к Маканину. Одно дело, когда является со стороны какой-нибудь враль и мелкий бес, какой-нибудь Сорокин, начиная возбуждать уставшего извращенного читателя к чтению и добивается своего. Но это сквозняк, плесень - они заводятся и в жилом доме, но никак не смогут порушить его основания. Русская литература же, понятно, держится в современности не на добром слове и старом своем прошлом, а на том, что пишется теперь же цельного, необоримого - и на личностях. И Маканин - это один из столпов; тот художник, что не утерял ни в какое время ни своего таланта, ни своего достоинства. Ему верили, и верят. Но вот рушиться начинает и дом.
"Кавказский пленный" - это и есть обвал. Маканин будто разуверился в том, что побуждает и побуждало русского человека к чтению, и на манер того же Сорокина взялся его возбуждать - и тоже, в конечном счете, кровью. И пишет он по лжи. Женоподобие презирается у горцев и даже карается. И того юноши женоподобного, которого Маканин пишет как воина, никак и никогда не могло в боевом отряде горцев существовать - да еще с оружием в руках. Горцы, с их почти обожествлением мужественности и силы, такого бы юношу, возьми он в руки, как и они, оружие, брось он на них хоть один самый безвинный взгляд, удушили были первее, чем тот русский солдат.
Это неправда или незнание одинаково громадны, поскольку именно на этом факте и выстроил Маканин громаду своего кавказского замысла, свой философско- психологический шедевр. Алла Латынина писала, что сцена удушения солдатом юноши - одна из потрясающих в русской литературе сцен. Но что может быть в том потрясающего, если питается из лжи: если и Маканин пишет не силой жизненного переживания и его правдой, а лепит безжизненно то, как должны бы этого женоподобного удушить. Тогда ведь должен потрясать и Сорокин, скажем, в той сцене, когда двое в тамбуре распиливали голову проводнице, а тот, кто подсматривал за ними, совокупляется потом с ее мозгом... Надо ж такое придумать! Но ведь у Сорокина и честней выходит, чем у Маканина - он не подделывается под русский художественный реализм, а прямо ему перечит, и не философствует о судьбах России, а так и заявляет, что никакой у ней судьбы нет. Выходит, надо только снаружи подать знаки жизненности и художественности, а внутри уж возможно изгнить?