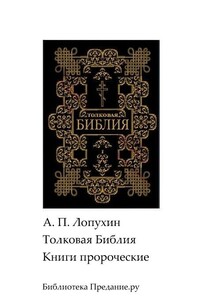Закон и Евангелие по учению Господа в Евангелии Матфея гл. V, ст. 13-48 | страница 38
Некоторые считают ограничение Мф. и ᾳ (или ᾳ) XIX, 9, не принадлежащими Господ[67] — на том главными образом основании, что в параллельных (Мф. XIX:9) Мф. передачах (Марк X:11–12 и Лк. XVI:18) такого ограничения не имеется, и мысль о недозволительности развода выражена со всею безусловностью. Однако естественнее предполагать, что евангелисты Марк и Лука опустили указанное ограничение, ибо оно могло ослаблять в представлении их читателей силу учения Господа о недозволительности произвольного расторжения брака. Такого впечатления не могло получаться у первоначальных читателей Матфея, понимавших изречение с точки зрения закона, по коему прелюбодеяние наказывалось смертью. Каковы бы ни были нравы в современной Христу наличной действительности, суровый закон не был отменен (ср. Иоан. VIII:5), и изречение Господа, вводящее это единственное исключение, по своему тону и впечатлению, не теряло характера безусловного воспрещения всякого произвольного развода.
Таким образом, Господь в 32 ст. заканчивает раскрытие вопроса: кто преступает седьмую заповедь, на этот раз в отношении к закону о разводе — но не дает ответа на вопрос в каких случаях или в каких формах развод узаконен или запрещен.
Вторым примером безусловного запрещения в царстве Христовом того, что в Ветхом Завете разрешалось условно и ограничительно, — представляется далее (ст. 33–37) клятва.