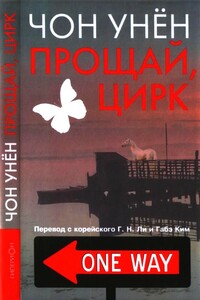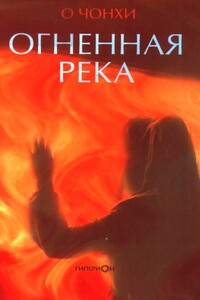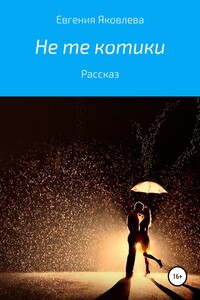Наш испорченный герой. Встреча с братом | страница 75
Мы совершали наше жертвоприношение на чужой земле, но это никак не уменьшило нашего благоговения. Я не чувствовал никакой неловкости, хотя и видел, что шофёр такси, ждавший на берегу, таращится на нас в полном недоумении да и редкие прохожие поглядывают с любопытством. Мной двигало высокое религиозное чувство, заслонявшее даже сыновний долг. Видимо, это чувство передалось и брату: помогая мне, он не сделал ни малейшей ошибки, хотя в моих указаниях наверняка были незнакомые ему слова.
Ощущение сиротства остро пронзило меня в самом конце церемонии, когда я отдавал последний ритуальный поклон. Передо мной была земля Северной Кореи, республики моего отца, припорошённая слоем пыли. Она напоминала мне человека, одиноко и подавленно сидящего на берегу, — символ жизни моего отца на этой земле.
Отец был единственным сыном у своей матери, которая возлагала на него огромные надежды. О его детстве и юности рассказывали невероятные истории, отчасти основанные на фактах, но безнадёжно перевранные и преувеличенные. Он рано стал пропагандистом коммунизма, и, хотя в его карьере на Юге были неудачи и провалы, все ждали от него великих дел. И теперь я спрашивал себя: как оценивал отец перед лицом смерти те сорок лет, которые он прожил в КНДР? Нет сомнения, что и там его вела вперед до самого конца коммунистическая идея. Я слышал в детстве, как он говорил маме: «Я был бы счастлив стать дворником в школе или рабочим на фабрике, только бы это было при республике, о которой я мечтаю всю свою жизнь». Но был ли он счастлив, попав в эту республику? Семья, оставленная на Юге, оставалась незаживающей раной. В сорок лет ему пришлось поменять профессию, а потом десять лет буквально бороться за выживание. Из преподавателя экономики он превратился в инженера на стройке — что было немногим лучше, чем быть простым рабочим, пока он не выбился в главные инженеры. Даже если он сам считал, что прожил хорошую жизнь, думал я сквозь слёзы, у меня остаётся право оплакивать его судьбу. В детстве всякий раз, когда я слышал о каких-нибудь стычках на границе, я всегда воображал, что это мой отец идёт войной на Юг, впереди целой армии и на белом коне. Когда я повзрослел, мы стали получать больше информации о том, что происходит на Севере. В газетах даже печатали списки тамошних высших партийных бонз. Отца среди них не было, и я говорил себе: значит, этим спискам просто нельзя верить. Когда я уже работал в университете, у меня появился доступ к документам по истории коммунистического движения на Юге — и в этих документах я тоже не нашёл имени отца, причём не только среди членов ЦК Трудовой партии Южной Кореи, но даже среди членов местных комитетов. И я говорил себе: значит, он скрывал своё имя, как и многие коммунистические вожди в то время. Я верил в его значимость только по одной причине: если он не был великим человеком, то было невозможно объяснить и оправдать все те страдания, которые претерпели из-за него моя мать и мы, его дети.