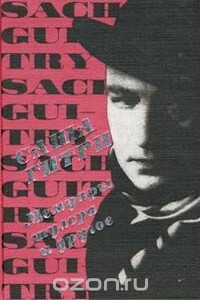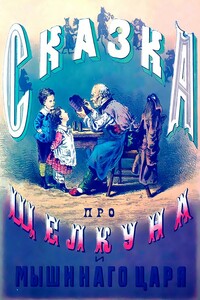«Мемуары шулера» и другое | страница 57
Однако не всегда читки за этим столом проходили в такой радужной атмосфере.
Порой они оборачивались полной катастрофой. Первый акт, который не предвещал ничего хорошего, второй акт, благодарение Богу, не безнадёжен — если кое-что изменить и многое выкинуть, — зато от третьего акта совсем уж вянут уши, и слушать его невозможно. Настолько невозможно, что Он его и не слушает.
Бывали и посиделки, которые прерывались прямо на первом акте — по одной, двум, трём или четырём причинам, которые ни под каким видом не могли нанести ущерба самолюбию автора. Причины, столь искусно придуманные, сдобренные потоками лестных слов, которые без конца повторялись до самой прихожей и внезапно иссякали лишь после того, как за незадачливым автором, наконец, захлопывалась дверь.
А ещё случались читки грустные, печальные и даже скорбные. Когда речь шла о пьесе друга, близкого друга, которую Он слушал с радостью, но которая, к его великому сожалению, не показалась ему «хорошей». Ибо — увы! — мало, чтобы пьеса была замечательной, всё-таки надо, чтобы она ещё была и «хорошей». Это слово, откровенно говоря, не слишком-то удачно передаёт, какой должна быть пьеса, чтобы её можно было поставить на сцене. А нужно для этого нечто такое, чего нет у многих прекрасных литературных произведений: она должна быть написана так, чтобы смотреть и одновременно слушать.
А ещё однажды вечером — я там присутствовал — было прочтение усыпляющее. Один человек, весьма выдающийся и незаурядного таланта, явился на ужин к отцу с намерением прочитать ему свою пьесу. Читать он начал только к часу ночи, причём голосом заунывным и монотонным. Уже со второй сцены, заметив, как отец, делая вид, будто плохо снял грим, приложил руки к глазам, я понял, чем всё кончится. Пятью минутами позже он заснул. Я под столом придвинул левую ногу поближе к правой ноге отца и потихоньку всякий раз оповещал его об окончании очередного акта. Тогда он просыпался и изрекал:
— Прелестно.
В половине третьего ночи, когда читка наконец завершилось, он поднялся и сказал автору:
— Друг мой, ваша пьеса восхитительна, но в ней нет роли для меня... и никто более меня не скорбит об этом!
Годом позже эта пьеса имела шумный успех. Мы с отцом присутствовали на генеральной репетиции, и тут причина его отказа, которую я тогда принял просто за уловку, показалась мне разумней не придумаешь. Роль и в самом деле была не для него. Ему вполне хватило двух первых сцен, чтобы в этом убедиться, и он лишь по дружбе делал вид, будто слушал до конца.