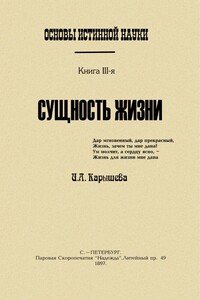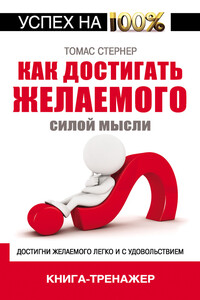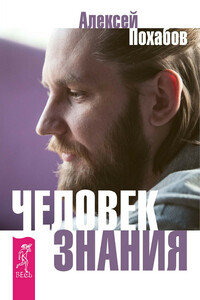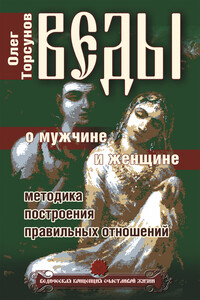Основы истинной науки - I | страница 69
Если же чувства наши не в состоянии передавать нам вид предмета или явления в самом себе, то мы должны прийти к убеждению, что и опыты, и наблюдения, произведённые под руководством этих несовершенных чувств, не могут считаться абсолютно непогрешимыми, если в них не введена соответствующая поправка, достаточно проверенная умом и свободными, не стесняемыми никакими пределами умозаключениями; что опять не согласно с программой позитивизма, который, не допуская умозаключений, простирающихся за пределы опыта и наблюдения, ни в каком случае не может допустить таких выводов ума, которые диаметрально противоречат указаниям опыта.
На основании вышеприведённых соображений мы имеем полное право заключить, что как мировоззрение позитивистов, их способы исследования природы, так и выводы, делаемые ими, не могут считаться безусловно верными и непогрешимыми, ибо предметом их изучения служит не сама вещь, не самое явление природы, рассматриваемые в самом себе, а лишь одно впечатление, которое производит эта вещь на органы чувств. Изучая впечатления вместо самих предметов, позитивисты изучают нечто совершенно в природе не существующее и совершенно не схожее ни по своей природе, ни по своей сущности с действительно существующим предметом.
С этим обстоятельством, которого никогда позитивисты не принимали во внимание при своём исследовании природы, надо считаться гораздо серьёзнее, чем с психической несостоятельностью человека, чем с научными правильно построенными гипотезами и чем с галлюцинациями чувств. Если в припадке психического аффекта, какой-нибудь позитивист и составит нелепую теорию, то другие немедленно это заметят и исправят ошибку, а невозможность познания предметов в самом себе через непосредственный опыт есть болезнь повальная, против которой до сих пор позитивисты никаких мер не приняли, и которая с основания их науки вводила их в страшные заблуждения и продолжает это и в настоящее время, придавая всему позитивизму ненаучное и несерьёзное значение.
Второе возражение, которое мы обязаны представить, должно касаться вопроса о полноте позитивных знаний и достаточности объяснений, даваемых позитивизмом фактам и явлениям, добытым экспериментом. Отчасти вопрос этот выяснен предыдущим возражением. В нём мы видели наглядно ту крупную ошибку, в которую вдаются позитивисты при каждом своём опыте вследствие того, что не допускают простора мысли и останавливают ход всякого вывода в пределах опыта. Если бы не мысль была подчинена опыту, но опыт был бы подчинен выводам разума, то с изменением ролей обоих факторов знания, изменился бы и самый смысл эксперимента, а пределы познаваемого расширились бы сами собой естественным образом, сообразно развитию мысли. В этом случае позитивизм никогда не мог бы вдаться в столь грубую ошибку, чтобы принимать впечатление, производимое каким-нибудь предметом на органы чувств за самый предмет, рассматриваемый в самом себе.