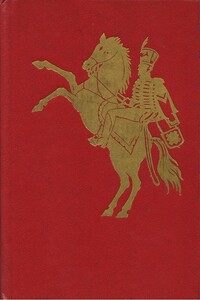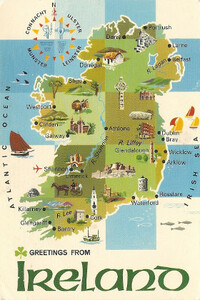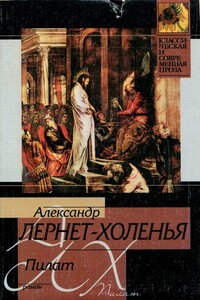Зулейка Добсон, или Оксфордская история любви | страница 84
Обыкновенно он писал по-английски прозой; но и другие формы не были редки. За границей он следовал учтивому обычаю писать на языке страны, где находился, — по-французски в доме на Елисейских Полях; по-итальянски на вилле в Байи; и так далее. На родине он иногда предпочитал местному диалекту тот язык, который более подходил настроению. В суровости его влекла латынь, и он из благородного железа этого языка извлекал эффекты, пожалуй, чересчур иногда впечатляющие. Воспаряя духом к вершинам созерцания, он обращался к санскриту. В минуты чистого веселья его перо источало греческую поэзию; особенное пристрастие он питал к Алкеевой строфе.
И сейчас, в тяжелую минуту, на него нахлынул греческий — гневные оглушительные ямбы, из тех, какими сыплет Прометей. Но едва герцог сел за письменный стол, раскрыл милый свой альбом и окунул перо в чернила, на него снизошло великое умиротворение. В нем заговорили ямбы сладкие, как речи Алкестиды, идущей на гибель. Но едва он приложил перо к бумаге, как рука дрогнула, он вскочил, и на него напал еще более яростный чих.
С котурнов упав, он обозлился. В нем пробудился дух Ювенала. Бичевать. Заставить Женщину (так он называл Зулейку) корчиться. Латинскими гекзаметрами, конечно. Эпистола предполагаемому наследнику… «Vae tibi», — начал он.
Vae tibi, vae misero, nisi circumspexeris artes Femineas, nam nulla salus quin femina posit Tradere, nulla fides quin —[85]
— Quin, — повторил он. Сочиняя монологи, он обычно с трудом сдерживал вдохновение. Мысль о том, что он обращается к предполагаемому наследнику — точнее, отнюдь-нетолько-предполагаемому наследнику, — его сбивала. А если подумать, то не только к нему, тупице, но к огромной посмертной аудитории. Гекзаметры эти определенно попадут в «официальную» биографию. «Скорбный интерес представляют эти строчки, написанные, кажется, за несколько часов до…» Он содрогнулся. Неужели это правда, не сон, что завтра, нет, сегодня, он умрет?
Даже ты, скромный мой Читатель, занимаешься своими делами со смутной мыслью, что тебе от оплаты последнего долга природе удастся как-нибудь уклониться. Герцог, прежде чем исполниться внезапным желанием умереть, считал себя безусловно от долга освобожденным. Теперь же он видел, как за окном бледнеет ночь, предвещая зарю его последнего дня. Иногда (хотя он и был с малых лет сиротой) ему даже трудно было поверить, что те, кто состоят с ним в родстве, не избегут общей повинности. Он вспомнил, с каким почти недоверием он вскоре после поступления в Итон отнесся к известию о смерти крестного, лорда Стэкли восьмидесяти с чем-то лет… Он взял со стола альбом, где на одной из первых страниц были начертаны мальчишеские переживания той утраты. Вот это место, написанное крупным рондо: