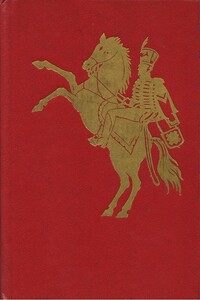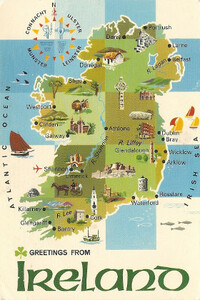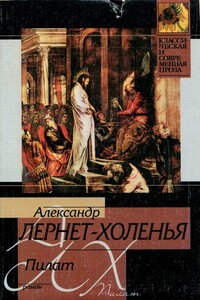Зулейка Добсон, или Оксфордская история любви | страница 81
Я ошибся. Ноукс и его комната являли собой крайне жалкое зрелище. Уронив на грудь подбородок, он сидел на шатком стуле, обратив взор к каминной полке. Из нее он сделал подобие алтаря. Посередине, на перевернутой жестянке из-под тминного печенья, возвышалась синяя плисовая рамка с латунным внутренним ободком, в которую вставлена была меньшая на несколько размеров открытка. С нее улыбалась Зулейка, но, очевидно, не скромному служителю этого жалкого святилища предназначалась ее улыбка. По бокам стояли вазочки — одна с геранями, другая с резедой. Ниже помещено было железное кольцо, которому Ноукс, заслуженно или незаслуженно, приписывал антиревматические свойства, — железное кольцо, которое Зулейка своим прикосновением наделила сегодня еще более волшебными качествами и которое Ноукс не смел теперь носить, но возложил на алтарь в качестве приношения.
Однако при всей своей покорности он был охвачен возмутившим меня себялюбием. Глядя через очки на чудесный образ, он загробным голосом повторял снова и снова:
— Я молод, я не хочу умирать.
Каждый раз, когда он это говорил, из-под очков показывались две крупные грушевидные слезы, попадавшие затем на жилет. Ноукс, похоже, забыл, что добрая половина студентов, вознамерившихся умереть — вознамерившихся мужественно, благодетельно, бесстрашно, — была его моложе. Кажется, ему казалось, что хотя на заклание шли намного более блестящие и многообещающие жизни, — его смерть заслуживала особого внимания. Но почему, если так не хочется умирать, не набраться хотя бы смелости быть трусом? Земной шар не перестал бы вращаться от того, что в его поверхность вцепился Ноукс. По мне, его участие только опошляло трагедию. Мне не терпелось с ним расстаться. Косой его взгляд, не достававшие до пола ноги, залитый слезами жилет, неумолчное «я молод, я не хочу умирать» — вынести это было совершенно невозможно. Но в комнату ниже я не решался спуститься из страха перед тем, что мог там увидеть.
Не знаю, сколько бы я так еще колебался, если бы снизу не раздался звук. Но он раздался, резкий и внезапный в ночи, немедленно меня успокоив. Я ринулся к герцогу.
Он стоял, вскинув голову и скрестив руки, в великолепном халате из багряной парчи. Пышный и горделивый, он похож был не на смертного, а на фигуру из величественной библейской группы работы Паоло Веронезе.
И это его я собрался жалеть! И это его я уже наполовину похоронил.
Лицо его, обычно бледное, было красным; волосы, которые никогда никто не видел растрепанными, блестели, взъерошившись. Вид его был тем более оживленный благодаря этим двум переменам. Одна из них, впрочем, у меня на глазах пропала. На лицо герцога вернулась бледность. Я понял, что то был лишь румянец; и тут же понял, что у этого румянца и у того, благодаря чему я узнал, что герцог жив, была Одна причина. Румянец его прилагался к чиху. А чих его прилагался к оскорблению, которое он пытался забыть. Он простудился.