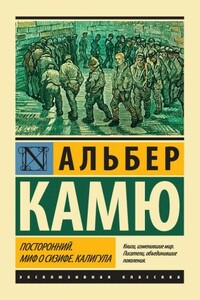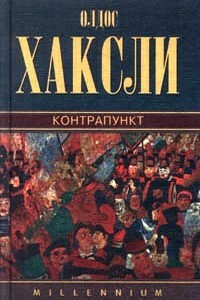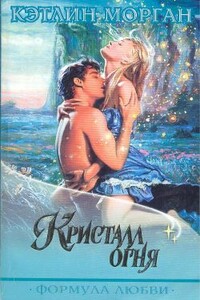Гений и богиня | страница 17
– Но ты же не умел подмигивать.
– А это тебе не девчонка, – ответил он. – Это была жена Генри Маартенса. Какие уж тут подмигивания. К тому же я состоял почетным членом семьи Маартенсов, и это превращало ее в мою почетную мать. Да не только в моральных принципах дело. У меня просто не возникало охоты подмигивать. Моя любовь была метафизической, едва ли не святой: так Данте любил Беатриче, так Петрарка любил Лауру. Правда, с небольшой разницей. В моем случае наблюдалась полная искренность. Я жил идеализмом. Никаких незаконнорожденных петрарчат. Никакой миссис Алигьери и никаких потаскушек вроде тех, к кому вынужден был прибегать Данте. Страсть сочеталась у меня с целомудрием – и то и другое в невероятной степени. Страсть и целомудрие, – повторил он и покачал головой. – К шестидесяти годам успеваешь позабыть, что это значит. Теперь я понимаю только слово, пришедшее им на смену, – равнодушие. Io sono Beatrice[5], – процитировал он. – Все суета, кроме Елены. Что ж? В преклонном возрасте тоже есть о чем поразмыслить.
Риверс притих; и вдруг, словно подтверждая его слова, в тишине отчетливо раздалось тиканье часов на каминной полке да потрескивание дров, по которым пробегали языки пламени.
– Разве может человек всерьез верить в свою неизменную индивидуальность? – снова заговорил он. – В логике А равно А. Но в жизни – извините. Между мною нынешним и мною прежним громадное различие. Вот я вспоминаю Джона Риверса, влюбленного в Кэти. И вижу будто куколок на сцене, словно смотрю «Ромео и Джульетту» в перевернутый бинокль. Даже не так: словно смотрю в перевернутый бинокль на призраки Ромео и Джульетты. И Ромео, когда-то носивший имя Джона Риверса, был влюблен и чувствовал в себе, наверное, десятикратный прилив энергии и жизненных сил. А мир вокруг него – этот чудесно преображен– ный мир!
Я помню, как он любовался природой; все цвета были, несомненно, более яркими, очертания предметов складывались в неописуемо прекрасные узоры. Я помню, как он глядел по сторонам на улице, и Сент-Луис, хочешь верь, хочешь нет, был самым славным городком на свете. Люди, дома, деревья, «форды» модели Т, псы у фонарных столбов – все было полно смысла. Какого, спросишь ты? Да своего собственного. Это была реальность, а не скопище символов. Гёте совершенно не прав. Alles Vergangliche ist ein Gleichnis?[6] Отнюдь нет! Каждая преходящая мелочь в каждый момент запечатлевает себя в вечности именно таковою. Смысл ее заключен в ее собственном бытии, а бытие это (что яснее ясного любому влюбленному) как раз и является Бытием с самой-пресамой Большой Буквы. За что ты любишь любимую? За то, что она