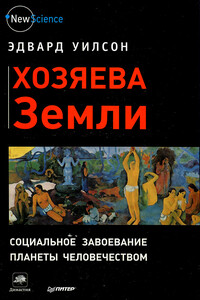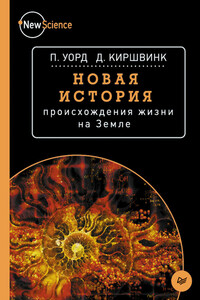Скелеты в шкафу. Драматичная эволюция человека | страница 37
Учитывая такое расхождение во взглядах, существовавшее с самого начала пилтдаунской авантюры, становится понятно, что концепция о происхождении от «эоантропа» современного человека или неандертальцев была заранее обречена на провал. С течением времени все новые и новые находки опровергали теорию о большом мозге как первом и главном признаке человека, и вскоре уже даже британские археологи начали игнорировать кости из Пилтдауна. Тем не менее формальное развенчание легенды произошло лишь в 1953 году, когда химический анализ показал полное несоответствие фрагментов черепа и челюсти друг другу, а под микроскопом были обнаружены следы спиливания на зубной коронке.
Из этого случая можно извлечь много полезных уроков. Самый очевидный состоит в том, что в огромной и неизбежно существующей переходной зоне науки, к которой по большей части относится антропология и в которой предположения невозможно подтвердить путем наблюдений или экспериментов, исследователи часто идут на поводу у своих предрассудков. Это случается даже с самыми педантичными учеными. Что уж говорить о палеоантропологии, которая в первые годы своего существования не отличалась точностью — да и не могла, учитывая скудность доступного материала. Кроме того, в те годы в палеоантропологии господствовало авторитетное (если не авторитарное) мнение. Позиция ученого в академической иерархии значила гораздо больше, чем обоснованность его взглядов. Как говорил мой великий коллега Стивен Джей Гулд, мы все несознательно становимся жертвами своих предубеждений, и «единственное лекарство от них — это бдительность и критический взгляд на вещи». Разве с этим можно поспорить? Тем не менее последние исследования показывают, что даже внимательный к себе Гулд не избежал влияния предрассудков, критикуя работу краниолога XIX века Сэмюэля Мортона из Филадельфии. Гулд разнес его труд в пух и прах, но впоследствии оказалось, что основания для этого были весьма сомнительными. Таким образом, бессознательно стремясь подтвердить свою точку зрения, Гулд принизил важность работы другого ученого. Наука — это самокорректирующаяся система знаний, но порой коррекции приходится долго ждать.
Пилтдаунский инцидент ярко демонстрирует нам, что при рассмотрении любого научного (в том числе и антропологического) вопроса мы должны отказаться от своих предубеждений и пристрастных мнений. Но, что еще важнее, нам нужно разобраться, откуда они берутся. Если подобные убеждения сформировались в нашей жизни достаточно рано, мы можем даже не понимать, насколько они предвзяты, и считать их истиной по умолчанию. Мы уже увидели, что на заре палеоантропологии существовали разные взгляды на то, как работает эволюционный процесс и какие виды возникают под его влиянием. Первые знания, полученные нами в этой области, имеют огромное значение для толкования новых фактов. К сожалению, в палеоантропологии до сих пор существует тенденция игнорировать мудрый совет Гулда и многие практикующие ученые пытаются втиснуть новую информацию в уже существующие системы, в частности новые ископаемые останки в уже существующие виды.