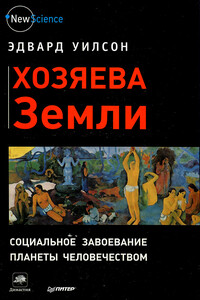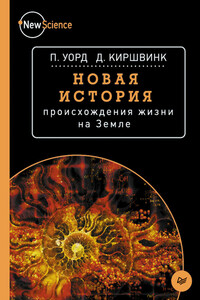Скелеты в шкафу. Драматичная эволюция человека | страница 160
Глава 10. Неандертальцы, ДНК и креативность
Молодой швед Сванте Паабо был одним из нескольких талантливых молодых молекулярных генетиков, склонных к творческой работе над геномом, которая была визитной карточкой лаборатории Алана Уилсона в Беркли. Вдохновленный полученным там опытом, в 1997 году Паабо впервые выделил ДНК из окаменелостей гоминида: небольшой фрагмент митохондриального генома, извлеченный из кости руки неандертальца из пещеры Фельдхофер. Это было удивительным техническим достижением, так как ДНК — длинная и хрупкая молекула, при жизни она нуждается в постоянном «ремонте», а после смерти быстро распадается на все более и более короткие фрагменты. Неизбежный процесс дробления замедляется в прохладных и сухих условиях, и это наряду с тем, что огромное количество копий мтДНК есть в каждой клетке, объясняет, почему в останках неандертальца еще оставалась ДНК, которую можно было извлечь. В своей недавней книге Neanderthal Man Паабо описывает продолжительную и напряженную борьбу с техническими проблемами в этой работе.
Его успех означал, что наконец стало возможным прямое сравнение генов Homo sapiens и его вымершего родственника. Фрагмент круговой молекулы мтДНК, который удалось секвенировать Паабо и его коллегам, оказался за пределами диапазона, наблюдаемого среди всех современных людей. В этой части митохондриального генома между нуклеотидами людей в среднем имеется восемь различий, а между людьми и шимпанзе — 55. Неандертальцы находятся примерно посередине — 26 различий. Более того, неандертальцы оказались генетически практически равноудалены от всех современных народов, с которыми их сравнивали, что позволяет предположить, что линии неандертальцев и современных людей в течение достаточно долгого времени развивались независимо.
После открытия способа многие группы исследователей извлекли более подробные геномы мтДНК из останков более чем 10 неандертальцев, найденных в разных уголках Европы. Результаты в целом были идентичны, однако дополнительно обнаружилось, что различия в последовательности мтДНК для людей и неандертальцев меньше, чем для любого из этих видов и шимпанзе. Это означает, что обе линии гоминидов относительно недавно преодолели генетическую «пробку». Очевидно, шимпанзе беспрепятственно накапливали мутации в мтДНК гораздо дольше, чем