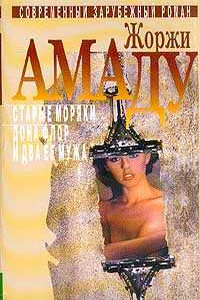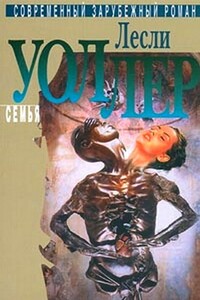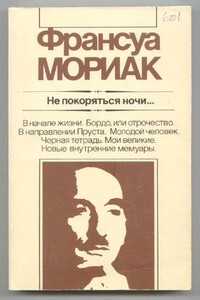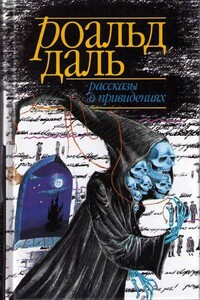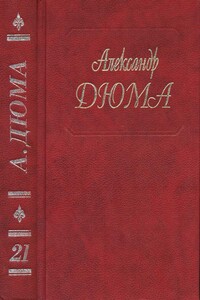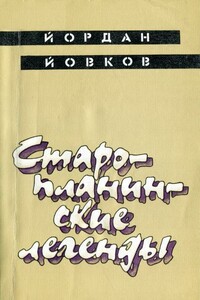Фарисейка | страница 42
В тот день, прощаясь, они холодно пожали руки друг другу. Но когда Жан уже взгромоздился на седло велосипеда, они быстро, полушепотом обменялись несколькими словами. Во время обеда наша мачеха только и говорила о графине де Мирбель и ее предстоящем визите. По ее словам выходило, что благодаря своему очарованию и красоте графиня является самой прелестной представительницей высшего общества. Конечно, о ней много в свое время говорили. Само собой разумеется, из чисто христианского милосердия мы не можем верить разным сплетням, да и сама Бригитта Пиан ничуть не верила этим гадостям: раз мы не видели что-либо своими собственными глазами, значит, и не имеем права утверждать, что это, мол, так и есть. Впрочем, хотя скандал был действительно шумным, надо признать, что Юлия де Мирбель, овдовев, живет весьма уединенно в своем замке Ла-Девиз, в Париже у Ла Мирандьезов провела только несколько месяцев, и поведение ее достаточно красноречиво свидетельствует о высоких душевных качествах.
Словом, из всех этих речей вытекало, что мачеха — дочь префекта Империи — придавала непомерное значение предполагаемому визиту знатной дамы, чьи родители не удостоили бы родителей нашей Бригитты даже взглядом. В этом плане предстоящее посещение графини де Мирбель тешило самолюбие нашей мачехи, если вообще что-либо могло его еще тешить, так как она, бесспорно, принадлежала к самому высшему обществу нашего города, не так в силу своего происхождения и богатства, как в силу своей почти загадочной власти над людьми, жаждущими истины, равно как и в силу своей разительной добродетели. Только имя Мирбелей открыло Жану двери Ларжюзона, а иначе наша мачеха подняла бы несусветный крик, хотя и теперь у нас его не называли иначе как «испорченный мальчик» и «сумасброд».
После ужина, когда на небе заблестел серпик луны, Мишель заявила, что она хочет прогуляться по парку. Тут папа, выйдя из состояния оцепенения, сказал ей как раз ту фразу, какую говорила ей в подобных обстоятельствах покойная мама: «Накинь что-нибудь на головку, а то от ручья тянет сыростью...»
Ту же самую радость, что переполняла нынче Жана, я читал теперь в глазах Мишель, ту же радость, то же упоение. Свет луны падал на ее лицо, и оно казалось мне алчущим, почти животным из-за сильно развитой нижней челюсти и пухлой нижней губы. Да и впрямь Мишель от природы была именно такой, я не встречал в жизни человека, который был бы так одержим стремлением вкусить счастье, как моя сестра в свои пятнадцать лет. Эта одержимость выказывала себя во всем, даже в манере впиваться зубами, губами в мякоть плода, не просто нюхать розу, а зарываться кончиком носа в самую сердцевину цветка, даже в том, как она, валяясь рядом со мной на траве, умела мгновенно засыпать, будто во власти какого-то магического забытья. И однако она не ждала сложив руки, когда на нее посыплются наслаждения: ее снедал инстинкт борьбы и побед, что она и доказала блистательно, заговорив со мной этим вечером о Жане. Ибо, именно чтобы поговорить о нем, Мишель предложила мне пройтись с ней по парку. Еще не дойдя до луга, затянутого туманом, она решилась: обняла меня голой рукой за шею, и я почувствовал, как она жарко задышала мне прямо в ухо — и один Бог знает, что за безумную тайну она мне поведала... Я сначала не поверил, слишком уж все это было чудесно!