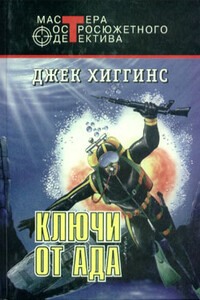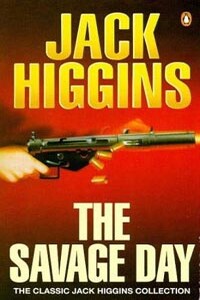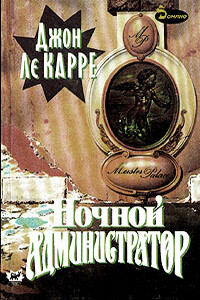Шпион, вернувшийся с холода. Война в Зазеркалье. В одном немецком городке | страница 24
На следующее утро в субботу Лимас попросил лавочника отпустить ему в кредит. Сделал он это весьма бесцеремонно, словно и не стремился получить то, о чем просил. Он выбрал с полдюжины вещей на сумму не больше фунта, а когда их упаковали и положили в пакет, сказал:
— Пришлите-ка мне лучше счет.
Лавочник криво улыбнулся:
— Боюсь, это невозможно, — сказал он, намеренно опустив обычное «сэр».
— Что значит невозможно? — заорал Лимас, и выстроившаяся за ним очередь глухо заворчала.
— Вы не являетесь постоянным покупателем.
— Какого черта! Я таскаюсь сюда уже четыре месяца.
Лавочник побагровел.
— Прежде чем предоставить кредит, мы просим предъявить чековую книжку.
Лимас взорвался.
— Не пори чушь! — заорал он. — Половина твоих покупателей сроду не видала чековой книжки и помрет, так и не увидев ее.
Это было чудовищной наглостью, поскольку полностью соответствовало действительности.
— Я вас не знаю, — внушительно повторил лавочник, — и вы мне не нравитесь. А теперь убирайтесь отсюда!
Он попытался вырвать у Лимаса пакет, но тот крепко держал его.
О том, что произошло вслед за этим, рассказывали по-разному. Одни говорили, что лавочник, отнимая сумку, толкнул Лимаса, другие, что не толкал. Так или иначе, Лимас ударил его. По свидетельству большинства присутствовавших, даже дважды, не прибегая к помощи правой руки, в которой все еще держал сумку. Кажется, он ударил не кулахом, а ребром ладони. А потом тем же неуловимым быстрым движением — локтем. Лавочник рухнул как подкошенный и замер. Позднее на суде было сказано — и не опротестовано защитой, — что лавочнику были нанесены два телесных повреждения: первым ударом раздроблена скула, а вторым выбита челюсть. Освещение этого инцидента в ежедневных новостях было адекватным, но не слишком детальным.
Глава 6
Контакт
Ночами он лежал на койке, прислушиваясь к шуму тюрьмы. Один парень все время хныкал, а какой-то старик без умолку пел похабщину, отбивая такт на жестяной миске. Надзиратель после каждого куплета кричал ему: «Заткнись, Джордж, мать твою так», — но и он, и все остальные плевать на это хотели. Был тут и ирландец, распевавший гимны ИРА, хотя, как поговаривали, сел он за изнасилование.
Лимас что было сил выкладывался днем на работе в надежде, что это поможет ему уснуть ночью, но все было напрасно. Ночью ты понимаешь, что сидишь в тюрьме, ночью нет ничего — ни обмана зрения, ни самообмана, — способного уберечь тебя от тошнотворного сознания того, что ты в камере. Ночью тебе не избавиться от вкуса тюрьмы, от запаха арестантской одежды, от вони дезинфицирующих средств, на которые тут не скупятся, от звуков упрятанных сюда людей. Именно ночами унизительность несвободы становится особенно нестерпимой, именно ночами Лимасу особенно хотелось пройтись по залитому солнцем Лондонскому парку. Именно тогда он особенно сильно ненавидел гротескную стальную клетку, в которой оказался, и ему с трудом удавалось подавить в себе желание голыми руками сломать ее прутья, разбить головы тюремщикам и вырваться на волю, в свободный, бесконечно свободный Лондон. Иногда он вспоминал Лиз. Он наводил свои мысли на нее ненадолго, словно фотокамеру, лишь на мгновение позволяя себе вспомнить нежно-упругое прикосновение ее длинного тела, и сразу же прогонял это воспоминание прочь. Лимас был не из тех, кто привык витать в облаках.