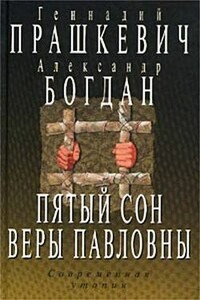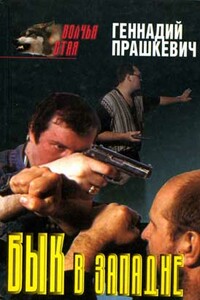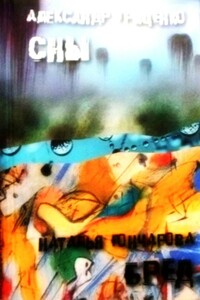Русский хор | страница 21
«Днем?» — удивился Алёша.
«Так, видно, тетенька приказала».
Алёша даже ускорил шаг. Как так? Неужто тетенька разрешила своему французу наконец построить хор? Вон как грустно, убедительно поют. «При долине куст калиновый стоял…»
Еще издали увидели круг людей понурых при анбаре.
Все стояли, только тетенька сидела на низкой скамеечке. Вся в темном, грозно перед собой смотрела. Алёша взглянул на Ипатича, а Ипатич на него. Неужто все-таки решилось с хором? — хотел спросить Алёша, но смолчал. А Ипатич другое подумал и тоже смолчал. Он французика не любил. Хитрости французика были ему не по нутру. Знал хорошо, что это не с хором решилось. Вовсе не так. Французик, похоже, девку Матрёшу совсем запутал, как паук, вот теперь Марья Никитишна его и строила.
Рядом с тетенькой сидел строгий немец.
Он свой долг выполнил, в нем удовлетворенность чувствовалась.
А в понуром круге людском кто-то на деревянной кобыле лежал, и слышались мерные шлепки влажного кнута. Алёша ближе протолкался, уж так складно, так чудно, печально пели. «На калине соловеюшка сидел…» Но не голую спину француза увидел. Увидел задранный сарафан, круглый зад, белый, округлый, с уже уходящими синяками. У Алёши будто перехватило дыхание. Тело круглое, вохкое, не прикрытое ничем. Горбатая Улька да низкорослая Дашка с мельницы держали девку Матрёшу, крепко прижимали к кобыле, а Авдотья, жена конюха, тоже низкорослая, лицо злое, стегала кнутом. И француз был в понуром круге, правда, не вместе с мужиками, а чуть в стороне. Вон как распустились, говорил его взгляд. Рано, рано в Томилине думать о менуэте или об енгленде.
«Горьку ягоду невесело клевал…» — тянул хор.
Ну совсем отбились от рук, вел, наверное, француз свои резонеманы.
Дикие пляски, дикие песни. Надо им, русским, много учиться пению. Вот девке кнутом по белому заду. Зачем бы? А не балуй. И тетенька, наверное, рассуждала про себя. Вот хотел хор построить Анри, теперь слушай, как хорошо поют. Не в утешение глупой девке Матрёше поют, а тебе в укор. Впредь учти. У меня в Томилине, думала, наверное, если секут, то за вороватость, за грубость, за нерадивое пение псалмов, а теперь вот за неправильную мечту, так что слушай, Анри, слушай русское пение. Не зря утром сумрачно сказала французу: «Простить не смогу, но смягчу».
И смягчила. Вот он, куст калиновый. Слушай, кавалер Анри Давид.
Когда тетенька поднялась с низкой скамеечки, Авдотья, жена конюха, остановилась с опущенным кнутом, но тетенька, не оборачиваясь, махнула рукой — продолжай. Хор от этого ее жеста запел еще печальнее, еще горше, ровными, чистыми голосами. Никто их этому не учил, само складывалось. Из-за пения никто, кроме Алёши, не расслышал, как Марья Никитишна в некотором раздумии произнесла вслух: «Поправит задницу, отдам за Ипатича. У него рука тяжелая, баловаться не даст».