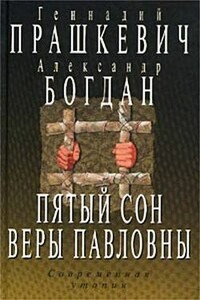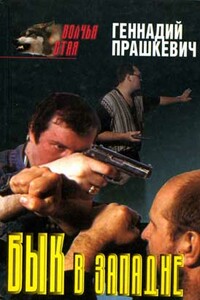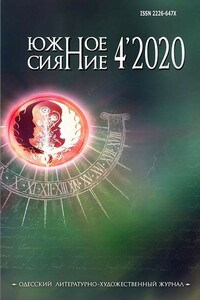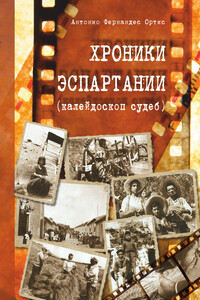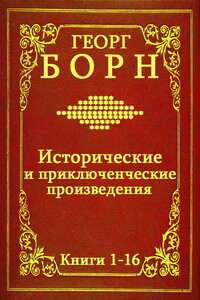Русский хор | страница 15
«Да как так, Анри? — играла бровями тетенька. — Ни в старой Зубовке, ни в Томилине, ни в Нижних Пердунах никогда такого не слыхивали и вверх по реке Кукуману еще не случалось ничего такого».
А француз настаивал: есть верхние и нижние голоса.
Вот девка Улька, указывал (кажется, всех девок в Томилине обсмотрел), очень славно пищит, ну и другие, и у девки Матрёши голос плавный, нежный, а если конюха Ефима научить, то от его голоса посуда начнет трескаться.
Вилланела, фроттоле, вильясино. Не обед, а какие-то дивные резонеманы.
Немец в этих разговорах не участвовал, но уши держал открытыми. Дисканты, альты, тенора, басы — это все слова. Голоса у девки Матрёши или у того же конюха Ефима и без этого сами собой звучат. Француз прыток, он как петух готов впрыгнуть в самую большую стаю деревенских девок, только какой из них хор? Просто это он Алёшу специально сбивает с толку.
Алёша правда дивился.
Услышал, например, слово «дивизи».
Как разделится хор на два голоса, так получай дивизи.
Жили-были, прыгали через костер, ловили рыбу, зачем же дивизи?
Не закажи тетенька французского кавалера Анри Давида — и теперь жили бы без дивизи и даже без нотоносца. Алёша немало этому дивился, но мысленно стал ставить Анри выше герра Риккерта. Немец — молчун, а Анри вечно что-то напевает. Листвы шум, плеск речки, порывы ветра — ничто ему не мешает, а, наоборот, все будто вплетается в его голос. С улицы придет, где грязь по колено, все равно поет. Герр Риккерт учит многому, но получается, что удовольствие достигается и пением. Алёша боялся этой мысли, он не умел врать, спроси его тетенька, он все свои смущения тут бы и высказал, но тетенька не спрашивала.
А у француза свое на уме.
«Скажи Матрёше, чтобы в овин пришла».
И смотрит весело, пронзительно, нужно ему и Матрёше рассказать про дивизи.
В первый раз Алёша согласился, пошел, заглянул в людскую. Кто-то там спал на печи, на лавке сапожник чинил сапог, конюх Ефим зашел, пил чай. Матрёша как раз помыла миски, крынки расставила сушить. «Чего, барич?» — спросила, выйдя на крылечко. Алёша сказал про овин, про Анри, а Матрёша неожиданно рассердилась: «У меня от него еще от прежних разов жопа болит». И опять хотела приподнять сарафан, показать синяки от щипков, но при открытых окнах не решилась.
Алёша и не стал больше ходить.
Зажигалась в нем смертная музыка.
В пятнадцать лет остро стал чувствовать красоту.
Сам лобастый, плечи узкие, локоны светлые, зубки выдаются вперед, как у всех Зубовых. Стал стеснение невнятное испытывать — от умного немца, от грозной тетеньки, от веселого француза, от девки Матрёши. Иногда тетенька, как раньше, звала Алёшу в кабинет, располагалась в любимом кресле, указывала на книгу: «Читай». И добавляла: «Книга такая глупая, что смеяться буду».