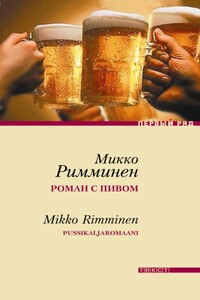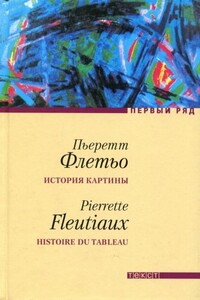Подходящий покойник | страница 69
Потому что Франсуа, который прибыл в Бухенвальд тем же транспортом из Компьеня, что и я — его лагерный номер совсем немного отличался от моего, — был сыном — естественно, мятежным, отвергнутым, но все же сыном — одного из самых активных и гнусных главарей французской милиции[34].
В случае чего, чтобы выжить, мне придется взять имя пронацистского ополченца.
Я повернул его к себе, чтобы посмотреть на его лицо.
Не только затем, чтобы не видеть его бедер, испачканных жидким, но теперь засохшим калом. Еще и для того, чтобы уловить возможное биение жизни, если можно назвать так это короткое, почти неуловимое дыхание, это слабое пульсирование крови, эти спазматические движения.
Чтобы услышать его последние слова, если они будут.
Лежа рядом с ним, я искал на его лице последние признаки жизни.
В «Надежде» Мальро, которую я перечитал за пару недель до ареста, меня потряс один эпизод.
Подбитый во время атаки франкистов самолет интернациональной эскадрильи, созданной и руководимой Андре Мальро, в огне возвращается на базу. Охваченный пламенем, он все же приземляется. Из-под обломков самолета извлекают раненых и трупы. В том числе — труп Марселино. «Марселино был убит пулей, попавшей ему в затылок, — пишет Мальро, — потому крови вытекло немного. Несмотря на трагическую пристальность глаз, которых никто не закрыл, несмотря на мертвенное освещение, маска была красивой».
Труп Марселино уложили на стол в баре аэропорта. Глядя на него, одна из официанток-испанок сказала: «Надо подождать еще час, самое малое, только тогда начинаешь видеть душу». И Мальро чуть ниже делает вывод: «Лишь через час после смерти из-под маски человека начинает проступать его истинное лицо».
Я смотрел на Франсуа Л. и думал об этих словах из «Надежды».
Я был уверен, что душа уже покинула его. Его настоящее лицо — осунувшееся, разрушенное — уже никогда не возникнет из этой ужасной маски. Не трагической, но непристойной. Никакая безмятежность не сможет разгладить искаженные, обезображенные черты лица Франсуа. Никакой покой больше немыслим в этом взгляде — ошеломленном, возмущенном, исполненном бессмысленного гнева. Франсуа еще не умер, но уже был оставлен.
Господи Боже, кем? Душа ли покинула истерзанное, оскверненное тело — хрупкий, ломкий остов, словно мертвое дерево, которое уже совсем скоро сожгут в печи крематория? Но кто оставил эту гордую, благородную, влюбленную в справедливость душу?
Когда гестапо схватило его, рассказывал мне Франсуа, и когда они поняли, с кем имеют дело, немецкие полицейские обратились к его отцу, верному союзнику, активному коллаборационисту: как им поступить с его сыном? Освободить? Они готовы были сделать исключение. «Пусть с ним обращаются так же, как с остальными, так же, как со всеми врагами, без всякой пощады», — ответил отец, профессор филологии, страстный почитатель античности и французской литературы. «Просто потрясающе, как совершенство прозы притягивает правых!» — усмехнулся Франсуа во время нашего разговора в сортире. Это был тот самый наш единственный бесконечно долгий разговор. В тот день он рассказывал мне о Жаке Шардонне, в частности о его участии два года назад в конференции писателей под руководством Йозефа Геббельса в Веймаре. «Ты не читал текстов Шардонна в „Нувель ревю франсэз“?» — спросил меня Франсуа.