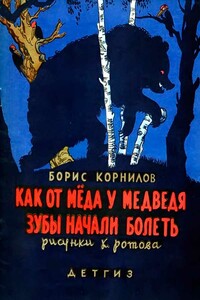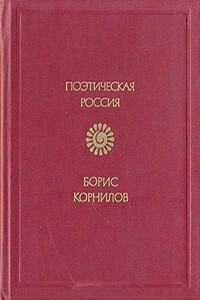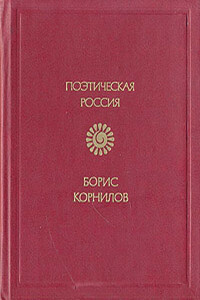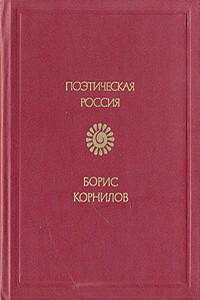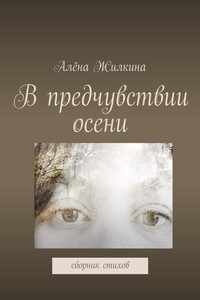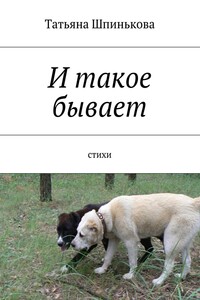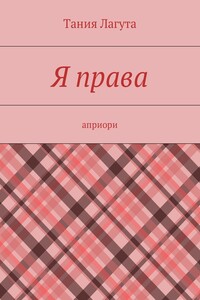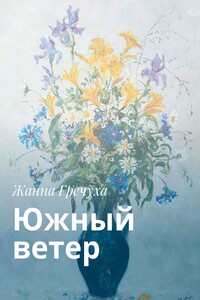Избранное | страница 8
В ранних нижегородских опытах Б. Корнилова природа как нечто противостоящее человеку еще не существует. «Плач дождя» в этих ранних опытах — такой же условный знак, как «комса от машины», строка «в лето шумное воткнула осень нож» — тот же плод школьного чтения, что и «власть труда». Природа как самостоятельное начало выделяется в сознании Корнилова в тот момент, когда первоначальная целостность разрывается между старым и новым берегами: нужны «каменные скулы Ленинграда», «туман, перешибленный огнями», чтобы родная «волость» приобрела для поэта символический смысл. Первые годы пребывания в Ленинграде пронизаны у Корнилова смутным чувством двойного существования: в своем городке он вспоминает про «город каменный» — в каменном городе мечтает о провинциальных пельменях и геранях; в Семенове он бредит гумилевскими викингами, радужными парусами и злыми вымпелами; в Ленинграде жалуется: «Мне тяжко… Грохочет проспект, всю душу и думки все вымуча. Приди и скажи нараспев про страшного Змея-Горыныча…»
В непрерывном тоскливом раздумье он ощущает в себе как бы две крови, смешанность начал, «примеси» (уж не от печенегов ли это? — задумывается), и, уходя от естественных родных корней, словно рвет от сердца: «Я пошел вперед, не взглянув назад — на соломой покрытые хаты», — но, уйдя от есенинской беззащитно-провинциальной красоты и твердо уже решившись остаться на берегу каменном, — все время чувствует в душе какой-то «нездешний» остаток. Он так и не растворится до конца, этот остаток естества, в каменных кварталах и будет давать ощущение неверности, смутной ненадежности, сдвоенности пути, такое, как будто «был и не был», такое, когда «все люди — как люди, поедут дорогой, а мы пронесем стороной…». Эти строки написаны в 1927 году, когда обаяние столицы еще подстегивает в Корнилове романтическое воображение; через год должна выйти первая книжка, а там — интерес литературной критики, и все казалось: «пронесет стороной!» Не пронесло. В 1929 году первый возбужденный интерес критики к «семеновскому Есенину» сменяется настороженным ожиданием дальнейшего — тут-то, при Великом Переломе, на пике успеха, впервые охватывает Корнилова тайное и смутное отчаяние. Он не умеет осознать этого состояния, но инстинктивно отшатывается в свою оставленную глушь. Его путешествие в природу кажется эпизодом, «охотничьим» антрактом: критики прорабатывают Корнилова за «ремизовщину», и сам он предваряет эти свои «пейзажи» лукаво извиняющейся рубрикой: «Описание природы». Но понимать эту корниловскую «природу» надо широко: перед нами всеобщее неистребимое и смутно живучее, не поддающееся природное начало, которое лирический герой приносит с собой в мир людей, и продолжает носить в себе, и не может от него освободиться.