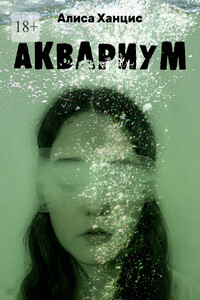Счастье | страница 7
Я кое-как пришел в себя, когда понял, что вохровец меня отпустил. Унес ведро и отпустил. Даже не прибил. И тут я испугался второй раз. Подумал: как же я должен выглядеть — одичавший, отощавший, оборванный, грязный, заросший — давно я не видел себя в зеркале, — если меня пожалел вохровец?
Так у меня навсегда пресеклись малейшие поползновения воровать.
А весной сорок пятого дело до меня кое-кому было, только я узнал об этом позже. Соученики по вечерней школе и классный руководитель — это был несчастный заморенный пожилой мужчина, одетый лишь немногим лучше, чем я, однажды прямо во время урока у него из носа хлынула кровь, — обеспокоенные моим отсутствием, пытались меня навестить, но на проходной их не пустили. А я лежал одетый в мою рвань, под жидким одеялом, временами впадая в бред, а когда из него выныривал, то все повторял стихи, которые сочинил в подражание Блоку: За дверью мрачной и невзрачною Четыре-пять ступеней вниз. Прощайся с жизнью неудачною, В надежной петле ты повис.
Полвека спустя, в самый разгар перестройки, по дороге в университет я сошелся с коллегой — профессором-лингвистом. Путь наш лежал через ухоженный городской парк. Это было прекрасное время освобождения от лжи, лицемерия, цензуры, ксенофобии. Можно было говорить без оглядки. И я говорил: все-таки я счастливый человек. На протяжении моей жизни моя страна постоянно переходит от худшего к лучшему. Пусть медленно, непоследовательно, пусть с отступлениями. Но от худшего к лучшему.
Коллега стал возмущаться пустыми полками магазинов, талонами, по которым продавали продукты. Почему-то в недавнее советское время не возмущались, принимали как должное, когда за продуктами и вещами ездили в Москву. А контроль над мыслью его не смущал. Я сказал:
— Знаете, после того, что я всю войну голодал и мерз, а в конце ее чуть не умер с голоду, то, что происходит сейчас, меня не пугает. Мы говорим все, что думаем, полки в магазинах пусты только наполовину, мы не голодаем.
На минуту мне показалось, что мой собеседник сейчас набросится на меня с кулаками. Он прямо закричал:
— Да, таким народом легко управлять! До каких пор мы будем наш быт мерить войной? Пятьдесят лет прошло! То была мировая катастрофа, всеобщее бедствие. А сейчас среди покоя, ни с того ни с сего, у нас отбирают наши деньги и сажают нас на паек! Чего ради?
Я не стал возражать. В его словах была своя правда. И в то же самое время знал: я свободен. И я сыт. А когда я ездил в Москву работать в ЦГАЛИ, то привозил домой в Смоленск растворимый кофе и шесть бутылок хорошего коньяка и вина (был для этого специальный портфель), и это служило только предметом шуток.