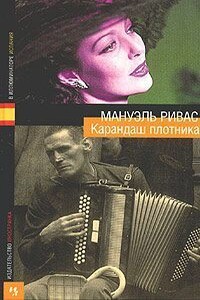Счастье | страница 19
— А я вас как-нибудь знаю?
И здесь он поразил меня снова. Я сказал, что он со мной никогда не встречался, только вот два года тому назад я писал ему по поводу его стихов в «Знамени».
— А, Баевский, Баевский! Я хорошо вас помню.
Я не назвал своей фамилии. Пастернак ее сам вспомнил. Настороженность, напряжение как рукой сняло. Я выразил удивление. Я был на седьмом небе от счастья.
— Это теперь вокруг меня много народу, а тогда совсем не было, и ваше письмо было мне дорого.
Много позже я сообразил, что из нашего маленького диалога следует, что мое письмо было единственным откликом, полученным Пастернаком на ту публикацию в «Знамени». А слова поэта об одиночестве нуждаются в объяснении, их нельзя понимать буквально. Пастернаку, который стоял на вершине мировой культуры и был самым образованным среди поэтов своего времени, нужны были слушатели и собеседники, способные понять его монологи и вести с ним диалог, — философы и музыканты, актеры и художники, филологи и поэты. Такие люди возле него были. Однако он, с его сначала инстинктивным, затем глубоко осознанным, органичным демократизмом страдал от мысли, что после войны у него нет массового читателя. «Большая литература невозможна без большого читателя», — говорил он. Вся жизнь его была подчинена стремлению уйти от узости любой литературной школы, от замкнутого элитарного круга собратьев по профессии и читателей-гурманов и заполучить читателя массового, не искушенного специальным образованием, со здоровым интересом к жизни и такой литературе, которая помогает эту жизнь наполнить и осмыслить. Мне к людям хочется, в толпу. Через полгода после моего посещения Пастернак написал замечательному актеру Московского художественного театра Б. Н. Ливанову, как раз одному из тех, кто составлял его близкое окружение: «А охотнее всего я всех бы вас перевешал». А несколько ранее о том же было недвусмысленно сказано в стихах: Друзья, родные, милый хлам! Вы времени пришлись по вкусу. О, как я вас еще предам, Лжецы, ничтожества и трусы! Быть может, в этом божий перст, Что нет для низости дороги, Как у преддверья министерств Покорно обивать пороги. Эти письмо и стихотворение давно неоднократно опубликованы. Я их только еще раз воспроизвожу.
Пастернак проводил меня в довольно большую комнату на первом этаже, столовую или гостиную, извинился, сказал, что напряженно работает и много времени уделить мне не сможет. Теперь я знаю, что попал к поэту в то время, когда здоровье его было окончательно подорвано, когда он стоял на пороге решения, соотносимого с тем, которое принял перед смертью Лев Толстой — о полном разрыве со своей средой и уходе к Ивинской. Давно, еще в «Охранной грамоте», он рассказал «о той из века в век повторяющейся странности, которую можно назвать последним годом поэта <…> Меняют привычки, носятся с новыми планами, не нахвалятся подъемом духа. И вдруг — конец, иногда насильственный, чаще естественный, но и тогда, по нежеланию защищаться, очень похожий на самоубийство». А я приехал из Донбасса, чтобы поддержать и ободрить его… Жизнь Пастернака неудержимо устремлялась к роковому концу, и не с моими малыми силами было его отодвинуть. Через двенадцать дней после моей встречи с Пастернаком его схватили прямо на улице в Переделкине, затолкали в машину и отвезли к генеральному прокурору СССР Руденко. А тот пригрозил, что на основании перехваченных писем против Пастернака и его близких будет возбуждено уголовное дело. В окружении Пастернака предполагали, что именно после этого потрясения он заболел раком.