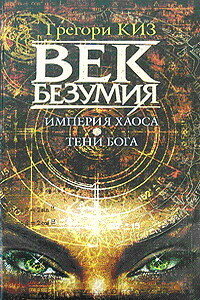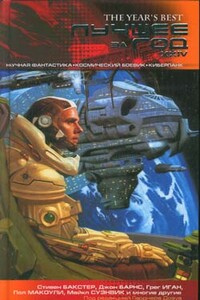Звук его рога | страница 19
Думаю, именно неестественная тишина тех первых дней и убедила меня в том, что я нахожусь в частной лечебнице для душевнобольных. Определив таким образом свое местонахождение, я решил попытаться при помощи наблюдений и дедукции узнать, как я попал сюда и почему со мной обращались как с весьма состоятельным пациентом, а не как с военнопленным, потому что никакого выпадения памяти, как ты понимаешь, у меня не было: я все время отдавал себе отчет в том, что я — офицер военно-морских сил Великобритании, помнил свое имя, как называется мой корабль и лагерь, в котором я находился до побега.
Задавать вопросы Дневной Сестре было абсолютно бессмысленно, хотя я и пытался делать это очень тонко. Она не была молчаливой, но обладала весьма своеобразной способностью в непринужденной и занимательной беседе не выходить за пределы профессиональных тем и не сказать ничего, кроме того, что имело отношение к моим телесным нуждам.
Всплыл лишь один-единственный факт, давший мне пищу для целою ряда размышлений: по ее словам, это место именовалось Хакелнбергом. Это был конкретный, радовавший меня факт, но сделать выводы из него я не смог, вернее, из этого вытекало еще одно обстоятельство, которому не было объяснений. К великой своей радости я обнаружил, что, сосредоточившись, могу мало-помалу восстановить в своей памяти во всех подробностях ту карту, которой снабдил меня лагерный Комитет по организации побегов, и теперь, лежа в своей комнате с закрытыми глазами и мысленно в нее вглядываясь, я убедился в том, что такого названия на ней не было. А это означало, что я находился по меньшей мере в сорока милях от лагеря ОФЛАГ XXIXZ, ибо таким был радиус моей карты. Не было никакого смысла пытаться выяснить у Дневной Сестры, знала ли она о том, что я был британским военнопленным. Я говорил по-английски с того самого момента, как пришел в себя, и, без всякого сомнения, бредил тоже по-английски. Доктор наверняка сообщил обо всем полиции, и офицеры разведки приходили взглянуть на меня: я представлял, как пара эсэсовских парней роется в моих нехитрых пожитках, изучает мои бумаги, карту и крошечный компас — предметы, рассказавшие им без околичностей историю моего побега, — а потом они совещаются с доктором и в конце концов, согласившись с его диагнозом, оставляют меня здесь.
Да, но на чьем попечении? Кому принадлежит этот дом? Почему его владельцы или те, кто управляют домом от их имени, должны лечить меня и ухаживать за мной? Филантропы редко занимаются такими заведениями. Я часами обдумывал этот вопрос, и в результате в мою душу закрались сомнения в том, что я нахожусь в частной клинике для душевнобольных. Если же все-таки это была именно такая больница, тогда единственным объяснением моего присутствия здесь было то, что мой случай, должно быть, представлял интерес для лечащего врача, который держал меня здесь и лечил из чисто научного любопытства. Но я вынужден был признаться себе в шаткости этой версии. Если же я находился не в клинике для душевнобольных, тогда оставалось единственное правдоподобное объяснение: этот дом принадлежал некоему эксцентричному богачу, наделенному чувством сострадания и имеющему большие связи; возможно, он (или она?) и сам страдает какой-то тяжелой болезнью, что объясняет и присутствие в доме высококвалифицированных сиделок, и их необычный внешний вид, не свойственный больничным сиделкам.