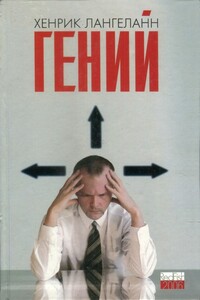Я уже не боюсь | страница 72
Выходим на перекур. Никита с кем-то трындит по мобилке, прижимая ее к уху локтем, хотя руки не заняты. В его зубах тлеет сигарета, от дыма глаза слезятся; ветер бросает на горящий окурок прядь волос, несколько из них вспыхивают, как усы Марфы, когда та сует нос слишком близко к зажженной конфорке.
— Ну, короче, нормально все, — говорит Никита, бросив телефон в карман джинсов и ухмыльнувшись Царькову. — Те, с кем я играл в прошлый раз, вообще звучали как самосвал со щебенкой. Только Толик там на басу нормально валил… — Поворачивается ко мне и добавляет: — Ты круто ритм лабаешь, надо только весло тебе нормальное намутить.
Приятно слышать подобное от этого чувака. Он кажется тем, кто знает, что говорит. Кажется взрослым.
Мимо нас с ревом проползает когда-то белая, а сейчас почти черная от грязи «Газель» и растворяется в облаке пыли среди бетонных коробок.
— Предлагаю разбежаться на пожрать, а вечером затусить, — говорит Китаец.
— Поддерживаю, — кивает Царьков.
Затусить с Царьковым… Да уж, мир точно сдвинулся.
Идем с Китайцем вдоль трассы домой. Царьков и Никита увалили на тролле на свои Терема. Над дорогой покачиваются рекламные растяжки с грязными, закопченными баннерами «Киев — город цветов».
Китаец швыряет петарду в ливнесток без решетки. Хлопок — и из дыры поднимается дымок.
— Круто. Круто получилось. Ептыть, реально как «Нирвана»! Блин, зашарашить бы еще завтра… А мне в «Караван» этот гребаный тащиться.
Я сочувствую Китайцу. Мне государство назначило какую-то подачку по случаю смерти отца — почти такую же, как зарплата в конторе у Тараса. Так что я могу не работать. Правда, от этого не лучше. Больше времени на мысли о том, о чем думать не хочется…
— А когда это «Турист» закрыли? — спрашиваю я, желая поддержать разговор и глядя на какие-то иероглифы над дверью старого магазина туристического и спортивного барахла.
— Недели две уже как. Открыли южнокорейский ресторан.
— Именно южнокорейский?
— Ага. Там вывеска на южнокорейском.
— Не бывает южнокорейского и северокорейского. Просто корейский.
— Хрен там. Мне брат говорил. Он шарит, — говорит Китаец, зажигая спичку и швыряя ее в прорезь торчащего у остановки почтового ящика.
Я качаю головой. Китаец — даун.
Забегаю в «ЭКО» за кормом для Марфы и тащусь домой: лифт сломался, и приходится идти пешком. Надписи на стенах, знакомые и привычные, после смерти Юли кажутся чем-то чужеродным, враждебным, как язык инопланетян, захвативших Землю.