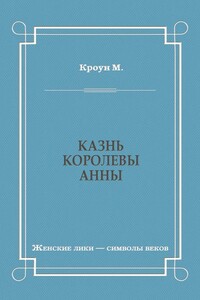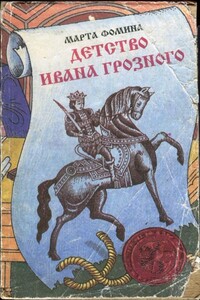Утраченное утро жизни | страница 68
XV
Скоро летние вечера под вечным небом стали опять удлиняться. И даже такая малость принесла мне столько нового и прекрасного, что я почувствовал себя почти спокойно. Теперь ночь была короткой, издалека приходил аромат созидания новой жизни, а утра — светлые, вселявшие надежду. Очень хорошо помню рождение дня по ту сторону больших семинарских окон, возвещавшее начало утренних молитв и ощущение своей энергии в утренней свежести. Помню хорошо и спад летнего зноя и, наконец, покой после захода солнца.
Когда пришел май месяц, нами снова овладел странный подъем жизненных сил и стремление к свободе с присущим восторгом и нежностью. В маленьком семинарском дворе снова благоухали фиалки, окрестные поля оделись в цвет надежды, а с приходом сумерек в жарком воздухе чувствовалось эхо короткого летнего дня. Вечер посвящался поклонению месяцу Девы Марии с подношением ей цветов, огней и гимнов. Это поклонение было красивым, литературным, как и Рождество, елей которого мы частенько использовали в наших сочинениях. Помню так же ясно, как печалились мы, когда наступал последний день поклонения и мы читали молитву «Прощай». Ореол очарования, далекая нежность рассеивались в воздухе и исчезали. И мы ощущали себя одинокими на пустынной горе, с грустью прощавшимися не знаю с какой иллюзией, но мягкой и молчаливой.
Когда же приходила июньская жара, мы молились по четкам на открытом воздухе, встав по четверо в ряд и образовав длинную колонну где-нибудь под тонкими каштанами, где обычно проходили переменки, или на вершине холма, подставляя лицо вечернему ветру. День, задыхаясь от усталости, медленно клонился к вечеру. Больше всего мне нравилось молиться, стоя на горе и охватывая взглядом всю долину и белую наготу семинарского здания, одиноко стоящего там внизу. И мне казалось, не знаю, как сказать, что все во мне молилось совсем не небу, которое всегда одинаково далеко, а печали вечера, который приносил мне отчаяние. Мрачные каденции возносились столбом вверх, парили какое-то время и потом рассеивались ветром. Подхваченный ими, я, паря над большим пространством, как и звук колокола, который я уже не слышал, тоже рассеивался… Или поспешно, если вдруг в этот час внизу проходил поезд и давал веселый гудок, уходил с ним, держась за его руку, пока в очередной раз не возвращался перепуганный незнакомыми землями. Следом за мной неслись весомые и плотные молитвы, затмевавшие небо. А вверху, в небе, закрывались два умиротворенных глаза и две большие руки простирались над землей. И темнота спускалась на мир, как божественный дар. Тогда мы осеняли себя крестом и спускались с гор. Я искал глазами Гауденсио, но мы почти не беседовали, так как дневная усталость не позволяла нам даже открыть рта.