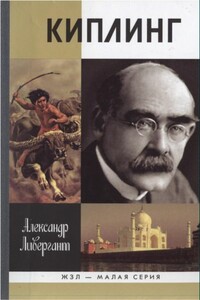Генри Миллер | страница 8
Разум. Может быть, в существование высшего разума он и верит, но никак не в разум в общепринятом смысле слова. Для Миллера «разум» — синоним банальности, пошлости, конформизма (еще одно ругательное слово): «Царство Идеи нынче задавлено разумом». Что же противопоставляет Миллер разуму, логике? — «Мир неистовства, страстей, мечтаний, мир, где торжествует экстаз». Миллер-писатель часто впадает в экстатическое состояние, его излюбленный прием — гипербола, любимый знак препинания — восклицательный. Он стремится ко всему тому, что ему непонятно; понятное, разумное, здравое, логичное он отторгает, испытывает тоску — опять же ницшеанскую — по иррациональному: «Не хочу быть благоразумным! Не хочу быть логичным!» Разум, логика, достоверность подавляются в его книгах эмоцией: «эмоциональную подлинность» разглядел в сюрреалистическом коллаже «Тропика Рака» Джордж Оруэлл. Эмоциональную подлинность, которая, как мы увидим, примиряет в книгах писателя грубый натурализм и высокую поэзию.
Жизнь. «Жизнь меня в принципе не устраивала, я считал ее бессмысленной». То есть ничего от нее не ждал. «Я решаю ни на что не надеяться, ничего не ждать, жить, как животное, как хищник, зверь, бродяга или разбойник», — замечает писатель в «Тропике Рака». Жить, как он однажды выразился, «вне человечества». И, в соответствии с этой логикой, — ни от кого, кроме самого себя, не зависеть, не чувствовать ни перед кем ответственности, не иметь ни забот, ни предубеждений, ни страстей. Эта философия, конечно же, на словах, не на деле: кем-кем, а буддийским монахом Генри Миллер не был, имелись у него и заботы, и предубеждения, и страсти, да еще какие! Да и не всякую жизнь считал он бессмысленной. Чувство «бесконечной бессмыслицы» охватывало его, надо полагать, ничуть не чаще, чем любого другого. Но одно можно сказать определенно: Миллер ненавидел жизнь, весь смысл которой — в самосохранении, жизнь пресную, устоявшуюся, жизнь, основанную на лжи, «на фундаменте из огромного зыбучего страха», жизнь с оглядкой, «про запас». Ту жизнь, иными словами, какой жили его родители. Отсюда и его желание быть чужаком, изгоем, жить, как животное, как хищник, «всегда двигаться к нигде не обозначенному месту». И в литературе, как мы упомянули, тоже; традиционные жанры и приемы без «дикого мяса» и «сумасшедшего нароста» были ему попросту неинтересны.
Столь же двойственно у Миллера и отношение к самому себе. С одной стороны: «И не было у меня злее врага, чем я сам». С другой: «Начинаю воображать себя одним-единственным в пространстве». То есть свободным, одиноким, не имеющим ни с кем ничего общего. Под этой «индивидуалистической» установкой подписались бы в 1930-е годы многие авангардисты: и Андре Бретон, и Фердинанд Селин, и, конечно же, Сальвадор Дали.