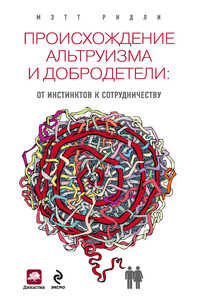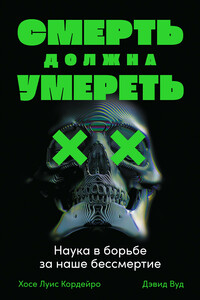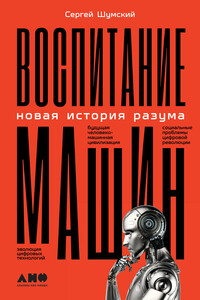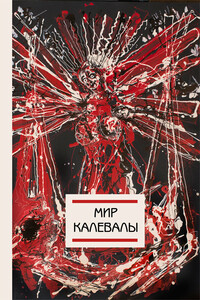Эволюция всего | страница 174
Если взглянуть назад с современной точки зрения или с точки зрения либералов эпохи Кобдена, Милля или Смита, между разными «измами» XX в. нет такой уж огромной разницы. Коммунизм, фашизм, национализм, корпоративизм, протекционизм, тейлоризм, дирижизм – всё это системы централизованного планирования. Стоит ли удивляться, что Муссолини когда-то был коммунистом, Гитлер – социалистом, а Освальд Мосли[58] стал членом парламента от лейбористской партии вскоре после того, как был избран от консерваторов, и до того, как стал фашистом? Фашизм и коммунизм – это государственные религии. Это формы разумного замысла. Они строятся вокруг политического вождя точно так же, как религия строится вокруг божества, признавая хотя бы отчасти его всемогущество, всеведение и непогрешимость. Исходные положения коммунистов заключаются в том, что их вождь – не отдельная личность, а воплощение всей партии, а бог – давно почивший длиннобородый парень. Однако все это длится недолго. Вскоре вместо имени Маркса встает имя Вождя: Сталина, Мао, Кастро, Кима. Верно, что фашисты не производили коллективизацию сельского хозяйства и позволяли частным компаниям получать прибыль, но лишь в определенных государством областях и в определенных государством целях. «Все внутри государства, ничего вне государства», – говорил Муссолини. Как указывает Голдберг, Гитлер ненавидел коммунистов не из-за их экономического учения или их желания уничтожить буржуазию – эти идеи ему нравились. В «Майн кампф» он защищал профсоюзы и критиковал жадность и «недальновидность и узколобость» бизнесменов столь же горячо, как любой современный антикапиталист. Нет, он ненавидел коммунизм, потому что видел в нем чужеродный, еврейский заговор, как ясно дал понять в своей книге.
Командно-управленческий способ руководства достиг кульминационной точки во время Второй мировой войны. Власть в большинстве стран осуществлялась жестким авторитарным методом в рамках фашистского, коммунистического или колониального режима, но даже в тех немногих странах, где сохранилась демократия, центральное планирование эффективно применялось в качестве меры военного времени. В Великобритании и в какой-то степени в Америке почти все аспекты жизни определялись государством. Индивидуализм старого образца, или либерализм, практически исчез. Но так ли это? Если заглянуть глубже, под централизованный уклад военного времени, можно обнаружить, что кое-кто ратовал за отмену плановой экономики после окончания войны. Например, писатели Герберт Агар и Колм Броган. В книге «Кто такой “народ”?», вышедшей в 1943 г., Броган писал: «Избежав оккупации, британский народ избежал самых страшных испытаний, но Канал не полностью перекрыл путь идеям. Все сильнее утверждается мнение, что насаждаемая немцами теория нового экономического порядка победит, поскольку должна победить».