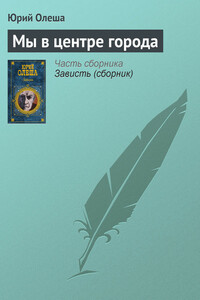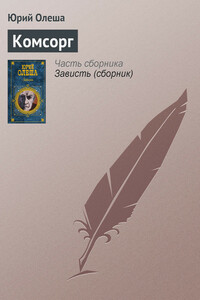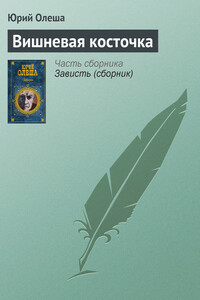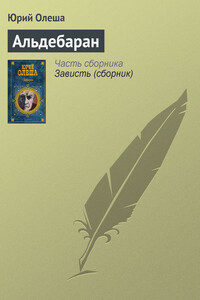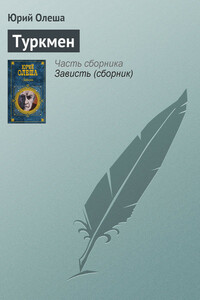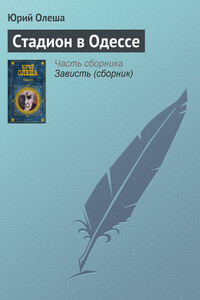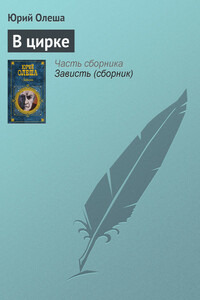Ни дня без строчки | страница 83
Мне вовсе не хочется, чтобы в моем воспоминании этот профессор был отрицательным персонажем. Он и не заслужил этого. Это был самый обыкновенный профессор, необыкновенно было то, что перед ним стояла целая группа хороших поэтов: пойди оцени такое явление спокойно, пойди не восстань против него! И где-то еще скребли кошки этого буржуазного профессора по той причине, что молодые поэты, сиявшие перед ним, были на стороне революции – с матросней, с кавалеристами в буденновках, с чекистами. Как бы там ни было, он восставал против нас и – что, безусловно, бросалось в глаза – оберегал своих студентов от наших чар.
– Байрон, – то и дело слышалось из его уст, – Байрон, когда он…
И следовало что-нибудь о Байроне против нас.
– Непревзойденный Данте…
И что-нибудь против нас о Данте.
– Сонеты Петрарки…
– Сонеты Петрарки? – переспросил Багрицкий. – А хотите, я напишу сонет сразу, начисто?
Конечно, Багрицкий не собирался вступать в соревнование с Петраркой… Его привела в раздражение надменность профессора, разозлила снобистская манера, с которой он произнес «Петрарки» с растягиванием звука «а».
– Да, да, – кивал поэт своей лохматой головой, – вот здесь, на доске, при всех напишу сонет без помарки.
– Ну, ну, хорошо, – сказал профессор, – вы как петушок, который…
– Какой там петушок! – взорвался Багрицкий. – Он меня похлопывает по плечу!
Это было невежливо по отношению к известному профессору, но в ту эпоху великой переоценки ценностей кто там следил за тем, что вежливо, а что невежливо.
– Без помарки! Сонет в пять минут без помарки!
– Ах, даже в пять минут? – засмеялся профессор.
– В пять минут! Сейчас я объясню им, что такое сонет.
Стоя лицом к студентам, Багрицкий – уже с мелком в руке – повел объяснение. Объясним и мы, что такое сонет. Сонет – это стихотворение, написанное с соблюдением особой, довольно трудной формы. Оно состоит из двух четверостиший и двух трехстиший – всего четырнадцать строк. Рифмующиеся звуки первого четверостишия должны повториться и во втором. В трехстишиях рифмы хоть и не повторяются, но расставляются в определенном порядке. Дело даже не в рифмах, дело в содержании стихотворения – оно должно соответствовать такому распределению мыслей: в первом четверостишии тезис, во втором антитезис, в двух трехстишиях вывод, положение, которое хочет доказать поэт.
– Понятно? – спросил Багрицкий.
– Понятно! – ответил амфитеатр.
– Теперь дайте мне тему.
– Камень, – сказал кто-то.
– Хорошо, камень!