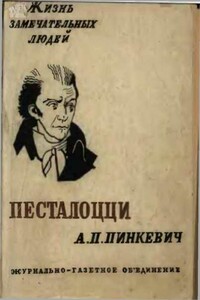Ни дня без строчки | страница 39
Я не купил велосипеда и не совершил путешествия по Европе. Горел Верден, Реймский собор, в котором в свое время бракосочеталась с французским королем дочь Ярослава Мудрого. Появились первые танки, и впервые аэропланы стали сбрасывать бомбы. Однако в музеях по-прежнему висели необыкновенные картины, прекрасные, как деревья на закате. Во сне я иногда вижу свое пребывание в Европе, которого никогда не было. Чаще всего мне снится Краков в виде стены, идущей кверху вдоль дороги, старой стены, с которой свисают растения, стучащие по ней ветками и шелестящие цветами. Я еще люблю вспоминать. Я мало что знаю о жизни. Мне больше всего нравится, что в ней есть звери, большие и маленькие, что в ней есть звезды, выпукло и сверкающе смотрящие на меня с ясного неба, что в ней есть деревья, прекрасные, как картины, и еще многое и многое.
Какое емкое явление – век! В нем успевают вместиться много поколений, событий, изменений лица культуры.
Лев Толстой, видевший зарю Некрасова, Тургенева, Достоевского, прожив восемьдесят два года, уже жил в эпоху, когда появились кинематограф и авиация. Трудно представить себе его переживание, когда он смотрел, скажем, на какого-нибудь авиатора – он, видевший рыжее, такое музейное для нас, страшноватое сукно севастопольских матросских шинелей. Ведь он был современником русско-японской войны! Это значит, что он успел узнать и о прожекторах, и о пулеметах, и о минах Уайтхеда – он, в Севастополе решавший для себя вопрос, кланяться перед ядрами или нет.
Я помню день смерти Толстого. Большая перемена в гимназии, в окна класса падают солнечные столбы сквозь меловую пыль, стоящую в воздухе оттого, что кто-то стирает написанное на доске, и вдруг чей-то голос в коридоре:
– Умер Толстой!
Я выбегаю, и уже везде:
– Умер Толстой! Умер Толстой!
И в мою жизнь уже много вместилось! Например, день смерти Толстого и, например, тот день, вчера, когда я увидел девушку, читавшую «Анну Каренину» на эскалаторе метро, привыкшую к технике, скользящую, не глядя, рукой по бегущему поручню, не боящуюся оступиться при переходе с эскалатора на твердую почву.
Могу сказать, что великая техника возникла на моих глазах.
Именно так: ее еще не было в мире, когда я был мальчиком… Были окна, за которыми не чернели провода, но горели электрические фонари, окна совсем не похожие на те, в какие мы смотрим теперь: за ними была видна булыжная мостовая, проезжал извозчик, шел чиновник в фуражке и со сложенным зонтиком под мышкой, силуэтами вырисовывались крыши на фоне заката, и если что-либо представлялось глазу нового, невиданного, то это была водосточная труба, сделанная из цинка. В дождь из нее широким веером хлестала вода, и звезды цинка, став мокрыми, были очень красивыми. Правда, цинк был новинкой, о нем много говорили, на водосточные трубы из цинка смотрели, останавливаясь, поднимая голову, устремляясь взглядом ввысь, вдоль трубы, сильно выделявшейся среди камня стены светлым, серебряным цветом.