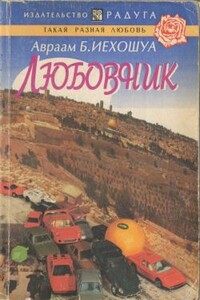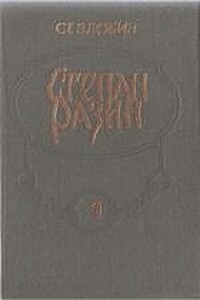Путешествие на край тысячелетия | страница 42
Сказать по правде, Бен-Атар и сам поначалу не очень-то понимал, к чему клонит его племянник, когда с таким необычайным увлечением повторяет слово «Париж», еще ни разу там не побывав. Впервые Абулафия упомянул этот город уже во время их второй летней встречи на Еврейском холме в Испанской марке, ровно через год после того, как компаньоны вернули завороженную девочку под его опеку. В следующее лето, верные обещанию отвезти исмаилитскую няньку обратно в Танжер, магрибцы прибыли в Барселонский залив в первый день месяца ава и снова, как обычно укрыв привезенные товары в харчевне Бенвенисти и расплатившись с матросами грузом бревен, купили у хозяина трех лошадей и не спеша поднялись к древнему римскому подворью. К их удивлению, Абулафия прибыл на встречу один. Старая исмаилитская нянька согласилась остаться с девочкой еще на год, потому что оказалось, что все попытки молодого вдовца заменить ее какой-нибудь местной женщиной, из дочерей ли Завета или из необрезанных, немедленно вызывали горькие и страдальческие протесты несчастной заговоренной девочки, затемненному сознанию которой татуированное лицо старой няньки, видимо, представлялось чем-то похожим на преображенное смутной памятью лицо давно исчезнувшей матери.
Впрочем, поначалу Абулафии трудно было убедить няньку променять родной Танжер с его вечным шумом морского прибоя и запахом апельсиновых рощ, тонущих в прозрачном, с медным отливом, свете североафриканских берегов, на постоянное одинокое заточение в чужом и холодном христианском городе, да еще в компании искалеченного от рождения существа, бессмысленные причуды которого можно было обуздать лишь бесконечной жалостью и состраданием. И впрямь — стоило этой огромной исмаилитке, в ее белой, полученной от Абу-Лутфи накидке и в тонкой, голубоватого шелка чадре, едва скрывающей огромную серьгу в носу, выйти с порченой девочкой на прогулку по узким городским улочкам, окружающим могучую Тулузскую крепость, как все прохожие тотчас отворачивали глаза и начинали торопливо бормотать себе под нос подходящие евангельские наставления и молитвы, чтобы, невзирая на странный, противоестественный вид этой пары, сохранить заповеданную христианам кротость и терпимость. Вот и получилось, что Абулафии удалось уговорить старую исмаилитку остаться с девочкой на второй год лишь после того, как он повысил ей месячную плату почти до уровня дополнительного младшего компаньона — по одной малой золотой монете в канун каждой субботы и одной большой каждое полнолуние, пообещав, к тому же, что они с девочкой переселятся из-под крепости поближе к центру города, на еврейскую улицу, которую он выбрал, прежде всего, по той причине, что в Тулузе вообще не было особой улицы для исмаилитов, а, кроме того, еще и потому, что, по глубокому убеждению старой исмаилитки, только среди евреев, которые сызмальства якшаются с