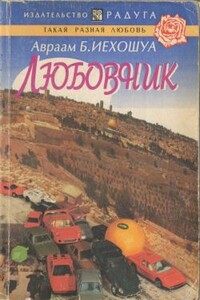Путешествие на край тысячелетия | страница 23
Глава третья
Куда же устремятся теперь прихотливые плетенья этого пиюта? Вот о чем размышляет рав Эльбаз, пока матросы на ощупь, в густом тумане, снова поднимают парус на мачту, чуть укоротив ее на рассвете для предстоящего кораблю осторожного, неспешного движения вверх по петляющей франкской реке. Сочиненье стихов всегда казалось раву подлинным чудом, и ему бы в голову никогда не пришло, что он сам окажется способен на такое. Но смотри-ка — за последнюю неделю к его пиюту прибавились целых шесть законченных строф, и все до единой — на иврите, и все до единой — в том новом, радостном размере и с той оригинальной рифмовкой, которые великий Бен-Лабрат завез в Андалусию с арабского Востока. Да, недаром рав Эльбаз с самого начала путешествия, с той самой минуты, как взошел вместе с сыном на судно Бен-Атара, специально пришедшее за ними в Кадис, ощутил, что отныне в его жизни наступают большие перемены. Правда, поначалу он почувствовал лишь острую тоску да смутный страх при виде маленьких, тесных, заставленных вещами кают, и шаткой палубы, огражденной одними канатами, и громоздящихся повсюду мешков с пряностями, и связанных друг с другом кувшинов в темном трюме, откуда по ночам по всему кораблю разносились резкие, незнакомые африканские запахи. К тому же севильский рав привык к яркой, ухоженной красоте родного города и к вежливой обходительности тамошних жителей, и теперь его охватил истинный ужас при виде перепоясанных льняными веревками, полуголых арабских матросов, которые перебрасывались между собой громкими непристойными возгласами и все норовили пнуть или хлестнуть черного юношу-раба, стоило тому прошмыгнуть между ними. Да и вид двух женщин в кисейных вуалях и цветных халатах, сидящих босиком на старом капитанском мостике, тоже, сказать по правде, не добавил новому пассажиру душевного спокойствия. А тут еще ему с самого начала пришлось непрестанно — и всё без толку — одергивать маленького сына, который тотчас принялся с упоением носиться по веревочным лестницам и такелажным канатам, точно юркая обезьянка по лианам. В сумерки же, когда корабль медленно вышел наконец в открытый океан, где рав никогда не бывал и который вообще увидел впервые, и палуба под его ногами стала беспорядочно крениться и вздрагивать от ударов океанских волн, он вдруг ощутил тяжелейшее головокружение и неодолимую тошноту. Охваченный стыдом, он укрылся в своей тесной каютке и, высунув голову в маленькое круглое окошко, изверг в багровеющую под вечерним солнцем воду весь тот завтрак, которым его угостили в синагоге Кадиса, где он произнес утреннюю проповедь, — а потом, в середине ночи, исторг из глубин своих внутренностей также и тот прощальный обед в Севилье, который накануне устроила в его честь родня покойной жены. К утру, разбитый и измученный после бессонной ночи, он вознадеялся было, что сумеет как-нибудь примириться с бушующим морем, но при виде пустых глазниц печеной рыбы, которую подал ему на завтрак черный невольник, желудок его снова взбунтовался. Он тотчас наложил на себя суровый пост, ибо еще со времени болезни жены привык изнурять себя постами и зароками, но, увы, — тошнота его от этого нисколько не уменьшилась. Бледный, изможденный, с глубоко запавшими глазами, он больше не пытался скрыть свои страдания и теперь то и дело широко разевал рот, в открытую цеплялся за палубные канаты, извергал из себя очередную пищу и судорожно моргал, словно вытащенная из воды рыба, мечтая лишь о том недалеком дне, когда они достигнут Лиссабона, где он сможет отказаться от этой жуткой морской авантюры, для которой и душа его, и тело явно не приспособлены Богом. Море недовольно мной, как пророком Ионой, пытался он оправдаться перед своим нанимателем, хозяином судна, который возлагал на него определенные надежды. Но, увы, — мне, в отличие от Ионы, Господь не шлет ту громадную рыбу-кита, которая проглотила бы меня целиком и сохранила, не переваривая.