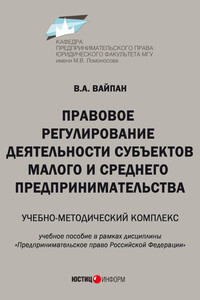Когда и как построен Эрмитаж | страница 30
А в это время, в 1783–1790 годах, в столице России архитектор Кваренги, только что закончивший строительство Эрмитажного театра, возвел вдоль Зимней канавки галерею, точно повторявшую Лоджии Браманте, но не открытую, а застекленную.
Позднее, когда строился Новый Эрмитаж, галерея была включена в общий фасад музея. Она состоит из тринадцати арок, поддерживающих своды и опирающихся на столбы. На ее стенах и потолке укрепили привезенные холсты с росписями. Богатейший узор почти сплошь покрыл своды, простенки между окнами и зеркалами. Сюжеты живописи разнообразны: из античных мифов, из растительного и животного мира, а на сводах — из Библии. Сочетание мягких красок росписи со строгой архитектурой создает цельное впечатление.
Подлинные фрески Рафаэля в ватиканской галерее, остававшиеся долгие столетия открытыми, пострадали от времени больше, чем эрмитажные. Роспись наших Лоджий удалось сохранить даже во время Великой Отечественной войны. Сделано это было так тщательно, что после войны Лоджии не нуждались в восстановлении.
Верхние залы Нового Эрмитажа
Через среднюю дверь Лоджий Рафаэля проходят в высокие сводчатые залы Нового Эрмитажа — так называемые Малый и Большой просветы. По плану архитектора Л. Кленце второй этаж первого в России художественного музея предназначался для живописи. Чтобы свет равномерно падал на развешанные по стенам картины, в больших залах были устроены застекленные потолки. Высокие своды украшают обильная золоченая лепка и медальоны с портретами знаменитых художников, скульпторов, архитекторов.
Богато убраны внутренние помещения музея, там стоят огромные вазы и столы из разных пород цветного камня. Обращают на себя внимание изделия из уральского малахита, прибайкальского и памирского лазурита, выполненные в технике русской мозаики.
В залах расставлены специально сделанные для музея в дворцовых мастерских золоченые стулья, кресла и диваны, обитые красным бархатом. Но каменные вазы, высокие торшеры, тяжелая мебель, несмотря на свою пышность, не отвлекают внимания от главного — живописи.
Роскошные отделка и убранство залов Нового Эрмитажа, не свойственные музеям, вызваны тем, что «публичный музеум», как его называли в XIX столетии, по существу являлся продолжением царского дворца. В Новом Эрмитаже устраивались даже придворные балы, маскарады и ужины. Это было варварством по отношению к произведениям искусства. После сборищ и пиршеств служителям музея приходилось немало потрудиться, чтобы привести в порядок помещения; реставраторы восстанавливали сильно пострадавшие от жары и испарений картины.