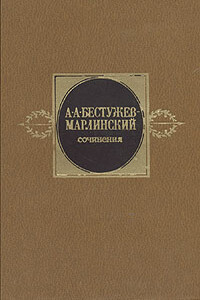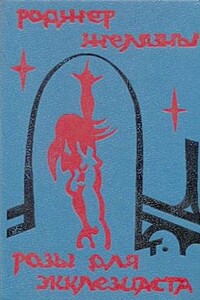Русская и советская фантастика | страница 2
Правдоподобие невероятной ситуации может основываться, с одной стороны, на особенностях натуры героя, на анализе условий жизни и с другой, — на предвосхищении новейших научных открытий и изобретений, но это более характерно уже для фантастики XX века. В любом случае предметом изображения становится само познание, соотношение интуиции и логики, догадки и расчета, иллюзорного и истинного. Показательны в этом отношении повествования А. Погорельского «Пагубные последствия необузданного воображения» и Н. Полевого «Блаженство безумия», с описаниями оптических опытов и мнемо-физико-магических вечеров. Духи из языческих преданий вдруг одушевили природу, дав жизнь фольклорной фантастике, мир которой полон таинственных существ, незримо вершащихся судеб, осмысленно текущих процессов естественного бытия. Обостренный интерес романтиков к народным обрядам и фольклору отразился и на фантастике XIX в., дав жанровое, «сказочное» ответвление («Русалка» О. Сомова), где необычное принципиально не нуждается в объяснении. В настоящем сборнике условно вычленено несколько разделов, в которых хронологический принцип совмещен с характерным для определенной эпохи отношением к необычному. В первый вошли повести, ставшие классическим образцом «завуалированной» фантастики, второй составили фольклорные романтические рассказы. Далее следует философская фантастика, приключенческая и социальная.
В глубокой древности народ создал мифы. Ими отмечено «детство» человечества. Время идет. Меняется жизнь, иными становятся и мечты. Воображение рождает новые легенды. Русскому читателю одним из первых раскрыл миф фантастики в своих балладах В. А. Жуковский. К народным преданиям тянулся А. С. Пушкин, в 20-летнем возрасте написавший поэму «Руслан и Людмила». Но реальная жизнь рождала фантасмагории совершенно другого характера. Разве не фантасмагоричным казался Петербург, являвший собой отталкивающее соединение роскоши и нищеты, красоты и безобразия, искренности и фальши, веселья и одиночества? Не был ли этот каменный город, с его прямыми проспектами, чуждым сыновьям деревянной Москвы, с кривыми улочками и русским Кремлем? И разве все, что сталкивалось с Петербургом, не теряло своего лица, не принимало другой, защитный облик — маску? И кто, как не Пушкин, лучше знал, что Петербург не прощает расслабленности, ошибок. Здесь самое невинное желание искажается и становится преступным.
Черт, обольщающий героев «Уединенного домика на Васильевском», — плоть от плоти Петербурга. Он ничем не выделяется в светском обществе. Разве только более удачлив. Интуитивно чистые натуры сторонятся его; но зло и разврат, которые несет с собой Варфоломей, порождены не потусторонней мрачной силой, а реальным миром русского дворянства; его нравами, мерой ценностей.