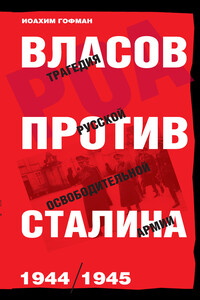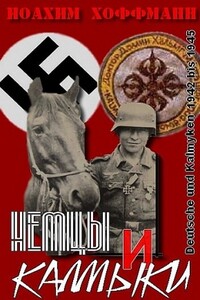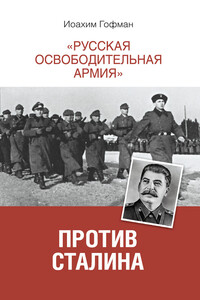Сталинская истребительная война (1941-1945 годы) | страница 63
Сталин решил, что смещенный и арестованный командующий Западным фронтом генерал армии Павлов и его штаб должны послужить примером, чтобы нагнать страху на всю Красную Армию и отвлечь внимание от своей собственной ответственности за крушение Западного фронта. Он приказал вынести смертный приговор генералу армии Павлову, начальнику штаба Западного фронта генерал-майору Климовских, начальнику связи фронта генерал-майору Григорьеву, далее командующему 4-й армией генерал-майору Коробкову. Приговор, подписанный председателем Военной коллегии Верховного суда СССР, кровавым армейским юристом Ульрихом, был сформулирован согласно указаниям Сталина, затем представлен ему и одобрен им[92] без проведения хотя бы формального судебного процесса. Такова была обычная практика советской юстиции в советских военных трибуналах.
16 июля 1941 г. Сталин в своем качестве председателя Государственного Комитета Обороны приказом № 00381 сообщил Красной Армии о предстоящем осуждении указанных генералов, а также командира 41-го стрелкового корпуса генерал-майора Кособуцкого, командира 60-й горно-стрелковой дивизии генерал-майора Шалихова, полкового комиссара Курочкина, командира 30-й стрелковой дивизии генерал-майора Галактионова и полкового комиссара Елисеева. Они были обвинены в «трусости, неосуществлении служебного контроля, неспособности, дезорганизации, оставлении оружия врагу и самовольном покидании позиций». О том, что эти обвинения не были полностью высосаны из пальца, видно по приказу № 001919 Ставки Верховного Главнокомандования, подписанному, видимо, 12 сентября 1941 г. Сталиным и начальником Генерального штаба, маршалом Советского Союза Шапошниковым, где содержится разоблачительный пассаж. «На всех фронтах, — говорится здесь, — имеются многочисленные элементы, которые даже бегут навстречу врагу и при первом же соприкосновении бросают свое оружие и тянут за собой других… тогда как число стойких командиров и комиссаров не очень велико». Едва ли Сталин стал бы без нужды делать такое признание.
Вновь введенный в тот же день, 16 июля 1941 г., для слежки за военачальниками всех рангов институт военных комиссаров и политруков представляет собой дополнительное доказательство того, насколько ненадежным считалось политико-моральное состояние Красной Армии. И войска НКВД не составляли при этом исключения, о чем свидетельствует пример 23-й мотострелковой дивизии оперативных частей НКВД. 12 июля 1941 г. замполит командира и начальник отделения политической пропаганды 23-й мотострелковой дивизии НКВД, полковой комиссар Водяха счел нужным в приказе № 02/0084 обратить внимание подчиненных частей и подразделений на случаи «непонимания сущности Отечественной войны народов Советского Союза против немецких фашистов». Невзирая на развернутую «вождем народов» товарищем Сталиным 3 июля 1941 г. по радио военную программу «деятельности советского народа и его славной Красной Армии», согласно Водяхе, имелись «лица в рядах наших бойцов и даже командного состава, которые проявляют сомнения в нашей победе, выражают пораженческие настроения и восхваляют мнимую мощь армии фашистской Германии, рассказывая небылицы о хорошем снабжении немецкой армии и даже выражая сомнения в правдивости нашей печати». Дескать, такие разговоры означают «враждебное, вреднейшее воздействие и пособничество врагу». Теперь распространителям таких «лживых слухов» пригрозили, что их, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР, опубликованным 6 июля 1941 г. и подписанным Калининым, привлекут к ответственности и отдадут под суд.