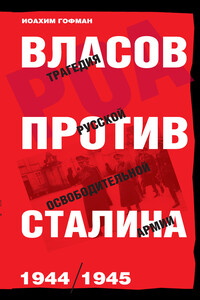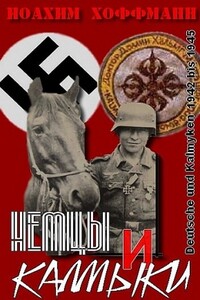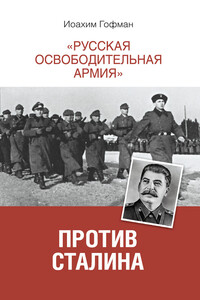Сталинская истребительная война (1941-1945 годы) | страница 23
Наши прежние познания об агрессивных намерениях Сталина находят полное подтверждение уже и в этой краткой записи, что теперь побудило Безыменского представить свои старые версии вновь, в известной мере в обновленном облике. Нельзя понять иначе обстоятельную статью под названием «Что же сказал Сталин 5 мая 1941 года?»,[39] появившуюся в журнале «Новое время», ведь здесь в пространных комментариях, обходя решающие пассажи высказываний Сталина, вновь утверждается, что тот заботился исключительно об обороне, а не о нападении и что противоположные интерпретации лишены всяких оснований. В Германии такие словоизлияния тотчас упали на благодатную почву. И за боннским историком Александром Фишером было оставлено право представить в юбилейной статье респектабельной «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг» по случаю 50-й годовщины со дня нападения на Советский Союз версию Безыменского, вводящую в заблуждение, как последнее слово пришедшей в движение российской историографии. При этом, ввиду многочисленных доказательств, к данному моменту уже не могло быть сомнений относительно подлинного основного пункта сталинской речи. Военнопленные советские офицеры уже вскоре после начала войны достаточно единодушно проинформировали об этом немцев.
Теперь была предпринята попытка поставить под сомнение значимость и таких свидетельств при помощи взятого с потолка утверждения, что военнопленные не будут говорить правду на допросах. Но верно именно противоположное, и даже в советской военной историографии «показаниям военнопленных солдат, офицеров и генералов, а также перебежчиков» придавалось «существенное значение в качестве первичного источника».[40] Как советское, так и немецкое командование подтверждало правильность этого вывода. «Военнопленные являются важным источником для получения важных данных о враге», — говорится, например, в приказе командира советского 6-го стрелкового корпуса генерал-майора Алексеева и бригадного комиссара Шуликова от 22 июля 1941 г. И совершенно аналогично — в приказе начальника штаба 21-й армии генерал-майора Гордова от 8 августа 1941 г.: «Пленных нужно рассматривать как основной источник сведений о враге». Как показал командир 27-го стрелкового корпуса генерал-майор Артеменко в сентябре 1941 г., «эти показания были самым главным материалом, который имелся о враге… Итак, немецкий военнопленный оставался единственным надежным информационным и разведывательным материалом. Многие операции начинались лишь затем, чтобы добыть пленных». Немецкий опыт был аналогичен. И в докладе отдела иностранных армий Востока Генерального штаба сухопутных войск о разведслужбе от 6 мая 1943 г. в Позене [ныне Познань, Польша] подчеркивалось, что «допросы пленных часто являются единственным и самым надежным средством, чтобы действительно выяснить суть дела». Поэтому тот, кто когда-либо производил сравнительное исследование протоколов допросов военнопленных, вновь и вновь поражается чрезвычайной содержательности этих документов.