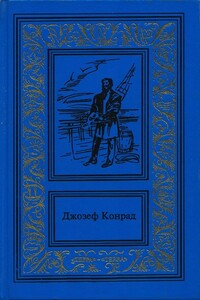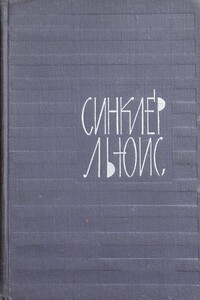Нильс Люне | страница 44
Со старыми друзьями тоже было уже не то, что прежде. Особенно с Фритьофом. Фритьоф, человек положительный, чуткий к системам, терпимый к догмам, начитался Хейберга, все принял за откровение и не подозревал, что систематики — не глупцы и строят системы на основании своих сочинений, а не сочинения на основании систем. Ну, а уж когда человек молодой попадет во власть системы, большего догматика не сыскать, потому что молодость трогательно доверчива к готовым положениям, к утвержденному, абсолютному. Ведь если я докопался до истины, самой что ни на есть несомненной истины, то как же я другим ее не открою и сам, один, пойду по истинному пути, а других, менее удачливых, допущу блуждать во мраке, не научу, не наставлю? Нет, я для их пользы даже и к жестокости, может быть, прибегну, зато непременно покажу им, пусть хоть силком, куда идти, к чему стремиться, ну а уж там, не скоро, после когда–нибудь, они меня же и поблагодарит за всю мою заботу об них.
Нильс, правда, часто повторял, что ничего не ценит выше критики, но любил он больше восхищение и никак не мог смириться с тем, что его критикует Фритьоф, которого всегда считал он своим крепостным и который всегда с удовольствием красовался в ливрее его убеждений. И вдруг вырядился в собственную маскарадную судейскую мантию! Это было слишком, и Нильс сперва пытался добродушно высмеять Фритьофа, но отклика не нашел и прибегнул к бессовестнейшим причудливейшим парадоксам, надменно отказываясь их отстаивать; он ошарашивал Фритьофа каким–нибудь диким и резким суждением и раздраженно умолкал.
Так они и разошлись.
С Эриком вышло лучше. В их мальчишеской дружбе всегда была сдержанность, стыдливость; между ними не было совершенного сближения, какое для дружбы так опасно; они восхищались друг другом в парадной зале, приятно болтали в гостиной, но не шли дальше — в спальню души, ее ванную и прочие укромные места этой квартиры.
Теперь все осталось по–старому, пожалуй, даже прибавилось сдержанности, особенно со стороны Нильса, но дружба от этого не менялась, и в основе ее по–прежнему лежало восхищение Нильса Люне дерзостью и отвагой Эрика, свободой и легкостью, с какой умел он брать от жизни все, что она дает. Однако ж Нильс не мог скрыть от себя, что чувства его скорее невзаимны, и не оттого чтобы Эрик был не способен к дружбе и ему не доверял. Напротив, никто другой не ставил Нильса так высоко; и Эрик настолько считал его одаренней себя, что и мысли не допускал о критике. Но, слепо признавая его преимущества, он знал, что интересы и пути у них разные. Он не сомневался в том, что Нильс одолеет выбранную дорогу, однако ж сам на нее не ступал. Нильса это тяготило, потому что, хоть он и не разделял идеалов Эрика, и то, чему тот стремился найти выражение в своем искусстве — романтическое или, пожалуй, романтически–сентиментальное, — вовсе ему не нравилось, он готов был с неизменной преданностью следить за развитием друга, вместе с ним радоваться его успехам, ободрять надеждой при неудачах.