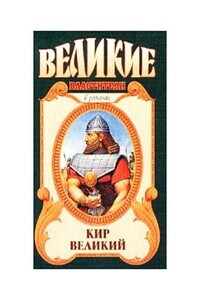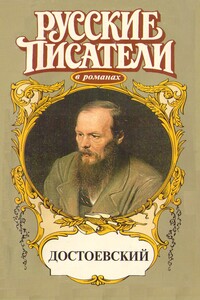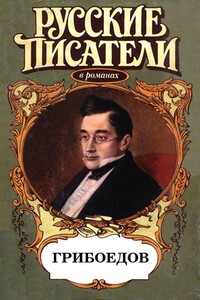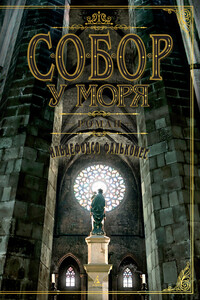Казнь. Генрих VIII | страница 20
Он содрогнулся, хмуро ответил:
— Эту честь я оставляю тебе.
Кромвель удовлетворённо воскликнул:
— Вот почему вы должны умереть! Как можно скорей!
Пленник посмотрел на него с сожалением и напомнил:
— Ты тоже умрёшь, даже если станешь по горло п крови.
Кромвель отмахнулся беспечно:
— Полно, мастер, пугать! Я не умру!
Мор тихо напомнил старую, но забытую истину:
— Все умирают. Даже великие. Что ж говорить о богатых и властных.
Кромвель испуганно отшатнулся и не возразил ничего.
Тогда Мор спокойно утешил его:
— Успокойся, я умру на день раньше тебя, если тебе эта мелочь приятна.
Кромвель нервно, коротко хохотнул:
— Вот то-то и есть! Мне это приятно! Я счастлив!
Собеседник с сожалением посмотрел на него:
— Рад услужить тебе, Томас Кромвель, хоть этим.
И прежние мысли воротились внезапно, и Мор отчаянно вопрошал, отчего негодяй остаётся лить кровь, а он, не замаравший в крови своих рук, прежде времени должен свалиться в могилу? Разве не лучше было бы для земли и людей, если бы раньше хоть на день ушёл негодяй? Им горько, им круто придётся от торжества тех, цель которых — переменить владельцев земель и богатств. А тогда — прочему?!
Больно и скорбно становилось ему, но боль и скорбь вызвал не этот угрюмо-ненужный вопрос, а лишь то, что ответы давно и недвусмысленно знал, так они были очевидны и просты. В сущности, мыслитель обречён с первого шага, который был сделан юношей семнадцати или восемнадцати лет, если не раньше. Не смотреть бы, не видеть, не знать ничего! Быть слепым и наивным, как Кромвель! Не понимать! Но видел, понимал. Видел и понимал, что именно так самовластно управляло людьми, какие желания двигали ими, не сомневался, что Кромвель останется, а прежде времени в могилу свалится он, что Томас Кромвель последует за ним очень скоро, а там новый Кромвель, ещё и ещё, ибо несокрушимая сила таилась в жадности человека. Всё было удивительно просто: человек жаден и по этой причине деньги, земли, дома испокон веку владеют людьми, отнимая разум, отнимая совесть и честь.
Внезапно Томас поднялся, оттолкнув табурет, и стремительно зашагал вдоль стены, не представляя, не понимая того, куда идёт, когда, в сущности, некуда было идти. Шагов через пять очутился в дальнем углу и едва не ударился лбом о камень стены, но успел повернуться — скорей по инстинкту, и встал, опустив голову, сложив руки крестом на груди. Его узкие плечи обвисли. Худое лицо потемнело. Бледные губы шевелились и вздрагивали. В горле сипело и клокотало. Глаза не видели ничего. В мозгу стучало без всякого смысла одно и то же: