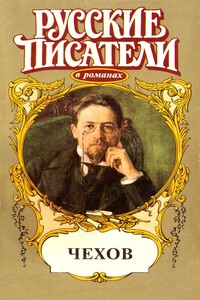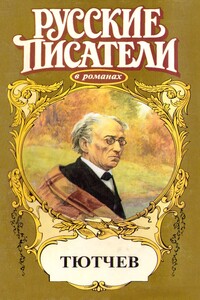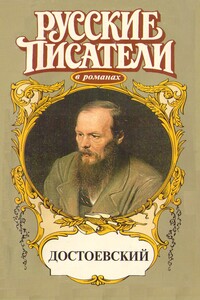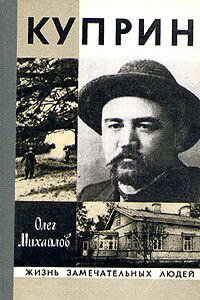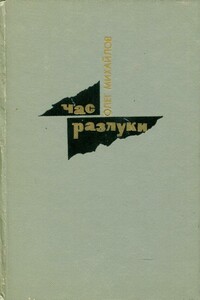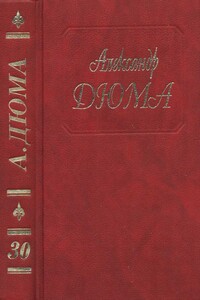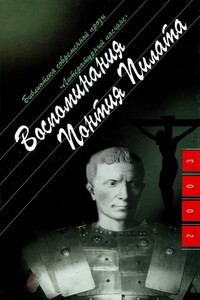Громовой пролети струей. Державин | страница 29
— «Глаголь» и «Добро»! — в бешенстве повторил Сумароков. — А! Я знаю, узнал, что за Добро сие глаголит! Сей поддевало непотребный — известный мне подьячий! Сейчас он попробует моей шпаги! Только бить его я буду плашмя — фухтелем! — и пулей вылетел из трактира.
Державин уже раскаивался в своей злой шутке. Не открывшись в авторстве возбуждённым гулякам, он решил ещё разок попытать счастия в игре и обратился за помощью к Гасвицкому.
— Нет, Гаврила, на игру у меня денег нет и не будет!..
Но упросил его Державин дать ему червонец и снова кинулся за карточные столы. Он нашёл Блудова в кружку куликовавших с ним дружков горланящим стихи известного Баркова[24]:
Под чтение сих виршей Державин быстро попался на подборе карт, весь жалкий свой капиталец просвистел и снова предстал перед Гасвицким.
Друг, Петруша, не могу так больше! — понуро пробормотал он скороговоркою. — И как дальше быть, не знаю...
— Хватит пить, пора ум копить! — с назиданием в голосе отвечал тог. — Поналытался без дела и уноси отсель ноги, покуда не поздно.
— Так ведь даже доехать до Питербурха не на что!
— Коли, братец, не на игру, то я тебе хоть сколько ссужу. Хочешь сотню? — И добрый поручик потянулся за кошельком.
— Довольно будет мне и пятидесяти целковых.
Державин обнял Гасвицкого, полетел на Поварскую, покидал в сундучок бумаги, бросился опрометью в сани и без оглядки поскакал в Питербурх.
Прощай, Москва со своими трактирами и ремесленными игроками! Прощай, выпивоха Блудов и плутяга Максимов! Прощайте, пригожайки московские и ты, бедная Стеша! Прощай, добрый друг Гасвицкий!
Но почему «прощайте»? До свидания! Мы ещё свидимся, свидимся с вами, только вот с кем — это одной судьбе ведомо!
Мартовский вечер был тих, снег падал охлопьями. За столпами Тверской заставы в смутной пелене потянулись ближние барские усадьбы, мелькнул охотничий домик Петра Великого под высокою зелёной голландской крышей. После Благовещенья наступило оттеплие, но Державина знобило. Накрывшись повылезшей волчьей полостью, он снова и снова повторял написанные им опомнясь строки о непотребном своём московском житье, шевеля пересмяглыми губами: