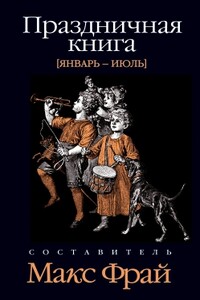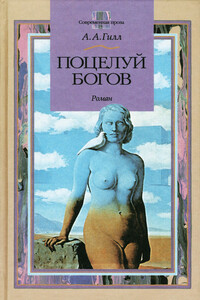Мотя | страница 64
Кока ударил кувалдой по изложнице — черное сердце треснуло, и из него выпал большой кусок багрового шлака. Нюра вздохнула разочарованно, и Кока ударил кувалдой по шлаку, тот раскрошился, и на пол упала, как показалось Моте, капля ртути — это было маленькое, с детский кулачок, стальное сердце — оно билось. Мотя подобрала его и положила в шкатулку, которую ей протянула Нюра.
— Ну вот, первое сердце, — сказала Мотя.
— поправил очки Кока.
Помолчали. Уцелевшие павлики жались у стены цеха. Кельвин терся о ноги Нюры.
— Прощай, Мотя, — вдруг сказала Нюра. — И ты прощай, Смирнов. Я вас люблю, берегите себя. Простите меня, но я остаюсь здесь — Огненным богом марранов, Хозяйкой Медной горы, Феей Убивающего домика и всем таким прочим.
— Мы забрали у них сердце, — она кивнула на павликов, — что–то нужно оставить взамен. Я останусь. А вы расскажете потом, чем все кончилось.
Она заплакала и обняла друзей.
4. Север
2
Теперь, после возвращения из могил, ни Моте, ни Коке больше не было нужно спать, но иногда они просто впадали в полузабытье, погруженные в свои мысли и воспоминания, перебирая их, словно зерна четок.
Мотя пришла в себя в автобусе от того, что он остановился — в окно было видно мрачное и серое здание, и часть надписи славянской вязью — ОЛЬСК. Что это — Тобольск? Мотя отодвинула штору — герб, обычно соединяющий в себе чум, снежинку и нефтяную вышку, и надпись — ЮДОЛЬСК.
— Стоянки нет, — выдыхает водитель, — проверка документов.
Мрачное здание оказалось контрольно–пропускным пунктом. Перед опущенным шлагбаумом стоял часовой в тулупе, рядом из будки, слабо звякая цепью, высовывала нос собака — выходить на ветер ей не хотелось. Из окна КПП доносился очередной гимн нефтяников:
— Алло! милый! Как ты там?
— Зая, работаю не вынимая!
Вдалеке, над лесом, виднелись циклопические бетонные тумбы с гигантскими сооружениями толстого стекла, за которым поблескивал металл.
— Что это? — спросила Мотя.
— Это Надпись, ну как же ты не знаешь?
— Надпись?
— Ну да, на географии рассказывали же. Не помнишь?
— Я болела тогда, наверно.
— Никите Сергеевичу Хрущеву как–то пришло нигерийское письмо, бумажное еще. На ломаном русском языке, подписанное какой–то Celine Angel Agabe. И там, в этом письме, была одна фраза, которая так его умилила, что он решил ее увековечить. И не просто отлить в бронзе, а сделать светящуюся надпись через весь СССР. Ему потом объяснили, что такое нигерийские письма, но было поздно. Началась отливка большущих ламп с большущими вольфрамовыми нитями. Надпись решили сделать от Перми до Благовещенска, шрифтом Calibri, двенадцатым кеглем. Сначала жирным шрифтом хотели, даже под это дело вольфрам в Казахстане нашли, и сразу же там целиной занялись. Потом побоялись, что мощностей не хватит, потому что вольфрам самый тугоплавкий, и решили просто курсив оставить. В шестьдесят третьем специально, чтобы Надпись обеспечить электроэнергией, стали Саяно—Шушенскую ГЭС строить. Китайцы тоже решили поучаствовать, но халтурили, ставили лампы Гёбеля с бамбуковой нитью вместо нормальных, вольфрамовых, и каолиновые. Потом строительство прекратилось, потому что Хрущев всех со своей Надписью достал, и его сняли за волюнтаризм, а в шестьдесят девятом случился Даманский, и китайцы тоже перестали строить.