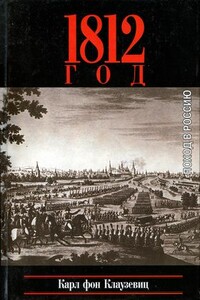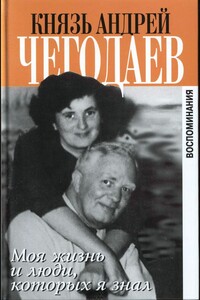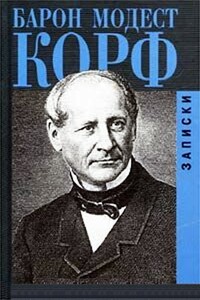Пушкин. Частная жизнь. 1811—1820 | страница 23
— Хотя у Жанно, пожалуй, поболе! — резюмировал Гурьев.
— Большой Жанно! — хмыкнул кто-то, вызвав смех у публики.
— Казак, подбодри своего казачка!
— Казачка-елдачка!
— А у Казака казачок поволосатей! — хохотнул кто-то.
— А мы что, на волосатость пари держим?
— Нет, на плешивость, — рассмеялся кто-то.
— Покажи плешку, Жанно… Да залупи же!
— У Потемкина-Таврического самый большой был в русской истории. Во всяком случае, из известных науке. По указу Екатерины с него сделали восковой слепок и хранят в футляре в Эрмитаже, — очень серьезно пояснил знаток истории Ломоносов.
— То-то он драл всех подряд, — усмехнулся Пущин, двигая рукой. — Даже троим своим племянницам целки проломил.
— Не троим, а пятерым, — поправил его Ломоносов, как всякий историк любивший точность. — Пять его племянниц считались его фаворитками.
— Племянницам? — охнул кто-то.
— Ну да, дочерей-то не было, а то бы и дочек драл. С таким хуем!
— Да чего там хуй Таврический! — сказал Пушкин. — Вон у нашего родного Кюхли хобот до колена болтается! Как у индийского слона. А если встанет, любую целку проломит, как пушка-единорог!
— А зачем он ему? — удивился Ваня Пущин. — Он к женщине до сорока лет не подойдет.
— Больше моего, Француз? — встрепенулся Малиновский и развернулся к Пушкину.
Пушкин оценил и покачал головой:
— Я думаю, больше.
— Где Кюхель? — завопил Малиновский. — Подать его сюда!
Скрюченный Кюхля и красавчик Корсаков сидели на лавке, завернувшись в простыни, и мирно беседовали, когда к ним приблизилась разбитная компания воспитанников во главе с Ваней Малиновским, который был много старше остальных, а потому поначалу во многом верховодил.
— Клопшток, Николя, тем и отличается от остальных… — продолжал свою мысль Кюхля, когда они встали над ним, и по их сияющим рожам Кюхля понял, что ждать ему ничего хорошего не приходится.
— Виля, милый, встань-ка, дружок! — попросил его ласково Малиновский.
Кюхля неуверенно приподнялся, кутаясь от стеснения в простыню и продолжая горбиться.
— Сымай покрывало! — приказал Малиновский.
— Зачем? — удивился Кюхля. — Я уже вымылся. — И он захлопал глазами и шмыгнул огромным, красным после парилки носом.
— Сымай, Кюхля! Врачебный осмотр в интересах истории!
Воспитанники захохотали.
— Осмотр индийского слона!
— Единорога!
— Какого единорога?! — Кюхля ничего не понимал и ни о чем не догадывался.
Поддержанный смехом лицеистов, Малиновский дернул на себя простыню, но Виля не позволил, почуяв неладное, вцепился в нее мертвой хваткой, неожиданно даже для самого себя стал сильным, почти бешеным, чем еще больше раззадорил Малиновского и остальных. Всей ватагой навалились на него.