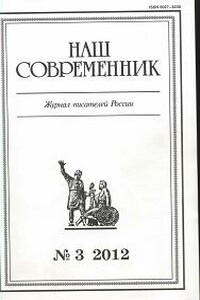Гностики и фарисеи | страница 27
***
До Петрова дня оставалась ещё неделя, а заняться по большому счёту было нечем. А потому решили приступить к покосу, не дожидаясь праздника. Условились подняться в четыре утра, потому что оба – и Симанский, и Чудомех – знали понаслышке, что косить ходят очень рано, по росе.
Косы то звенели, то взвизгивали, жаворонки журчали над головами. Изысканно-сдержанное северное лето напоминало юную свежую девушку, к волосам и цвету лица которой идёт самое скромное, самое неброское платье, а кожа, пахнущая не то арбузом, не то фиалкой, не то ещё чем-то нежным и свежим, не нуждается ни в каких самых сладких и чувственных духах.
С непривычки вставать рано гудело в голове, слегка подташнивало и тряслись руки. Но было приятно сознавать себя настоящими русскими мужиками, занятыми настоящим делом, польза от которого очевидна. К девяти часам вернулись домой и занялись мелкими делами: готовили обед, чистили избу, окосили траву на участке.
И на другой, и на третий день поднимались спозаранку. Суета и перемены прогнали на время хандру. Но Симанский верил, что хождение в народ, старый, испытанный поколениями интеллигентов способ борьбы со скукой вновь не подвёл. Если бы и тут он смог остановиться, спокойно подумать, а главное – заглянуть внутрь самого себя, он убедился бы, что в деревню его пригнало чувство, на языке отца Алексея называемое «самостью». Чувство коварное, толкающее на самые нелепые шаги ради испытания себя и ради последующего довольства собой.
В суете и безостановочном верчении проходила жизнь самого Симанского и окружавших его людей. Своё «я» в этом мире негласно считалось высшей ценностью и мерилом всех вещей. Людей было много, и «я» у каждого своё, а потому никто ни с кем не сближался, и все оставались одиноки в большой толпе.
Когда на утро четвёртого дня у Чудомеха от непривычно-тяжёлого труда сдавило вдруг сердце, а перед глазами поплыли тёмные круги, и пришлось идти в село за фельдшерицей, Симанский поймал себя на том, что вместо сочувствия испытывает досаду, потому что из-за Чудомеха вынужден оставить интересное и приятное дело.
Фельдшерица оказалась дамой нестарой, к тому же одинокой – муж её прошлым летом сгинул спьяну в болоте. Чудомеху она прописала покой и обещала передать лекарство. Два дня Чудомех провёл в постели, и Симанскому приходилось ухаживать за ним. Приходила фельдшерица, измеряла давление и поила Чудомеха отваром трав, который приготовляла и приносила сама в железном термосе, пахнущем кофе. От горького, зловонного отвара сводило мышцы лица, но Чудомех пил и улыбался, потому что ему были приятны знаки внимания этой чужой симпатичной женщины, и хотелось, со своей стороны, сделать что-нибудь приятное для неё.