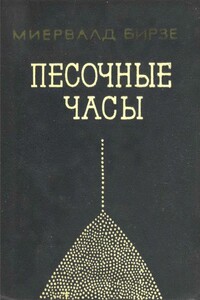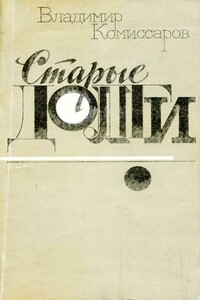Юноша | страница 41
— Никуда я не поеду…
— А тебе прикажут в порядке комсомольской дисциплины…
— Глупости, никто мне ничего не прикажет.
— Слишком ты умен, Колче… А вот я вам приказываю.
Сейчас говорили все трое.
— Я не поеду.
— Нет, поедешь…
— Заставят!
— Никто меня не заставит!
— Райком тебя заставит!
— Я вам приказываю, товарищ Колче, в порядке дисциплины.
— Я сказал — не поеду, и не поеду. Мне надо дописывать картину, и я собираюсь в Москву.
— Тогда поставим вопрос о вашем пребывании в комсомоле…
— У такого, как Колче, давно надо отнять билет.
— Возьми его! — крикнул Миша и дрожащими руками вынул из верхнего карманчика гимнастерки комсомольский билет и швырнул Галузо.
Галузо осторожненько взял билет и передал Ясиноватых. Тот молча спрятал его в письменный стол и злобно посмотрел на Мишу.
— Можете уходить!..
Миша хлопнул дверью…
Вечером Кольниченко полез на мокрую, скользкую крышу, под которой умирал раввин, и поставил антенну.
Раввин был несказанно рад, когда к его ушам прилепились наушники.
— Чтоб тише! — строго попросил он присутствовавших за дверью стариков и старух.
Сначала услыхал он далекую музыку, а потом — ничего.
«Услышать бы ее голос», — подумал раввин. Но он ничего не слышал.
— Тише!..
И вот опять музыка. Музыка кончилась, и сейчас кто-то поет. Это голос Тани. Несомненно, это поет она. Это поет Таня о девушке, которая заблудилась в лесу. Страшно ночью в лесу. У девушки глаза, как сапфиры, и она ночью в лесу. Раввин зажмурил глаза от наслаждения и увидел Таню. Вот она возле. Вот ее волосы — редька в меду. Наморщенная кожа у локтя. Она нагнулась над ним. Она дышит ему в лицо. И оттого, что она нагнулась, он видит светлую полоску, разделяющую груди. Груди шевелятся под блузкой, как белые голуби. Теплые голуби, с розовыми клювами. С ума сойти, так хочется их тронуть!..
— Я слышу ее голос, — прошептал раввин.
Самая истеричная старуха, стоявшая ближе всех у двери к замочной скважине (ей давно хотелось плакать), всплеснула руками и вскрикнула:
— Он слышит голос своей матери!
Все ворвались в комнату раввина. Плакали, ломали пальцы и извивались в горе. Один из стариков подбежал к раввину с какой-то бумагой и пером, обмакнутым в чернила.
— Подпишите, — умолял он его, — подпишите!
Это был давно заготовленный текст, где раввин должен был признать свои ошибки.
Высохшей детской рукой раввин отстранил бумаги, приподнялся и, дрогнув бородкой, в отчаянии прохрипел:
— Пошли вон, дураки!.. Дураки…
Закашлялся и умер в наушниках…