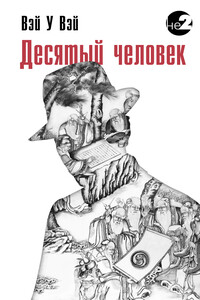Открытая тайна | страница 5
Событие происходит только в уме воспринимающего — одного или нескольких, в зависимости от обстоятельств — и никакое событие не может быть ничем иным, кроме как памятью, когда мы знаем его. События — лишь психические переживания. События, или память о событиях, — это объективизации в сознании.
2. Псевдопроблема «страдания»
Кто может страдать?
Только объект может страдать.
Я не объект (никакой объект не может быть я), нет ни я-объекта ни я-субъекта, потому что они оба были бы объектами.
Следовательно, я не могу страдать.
Но кажется, что страдание есть, как и его противоположность, — как удовольствие, так и боль. Это видимости, но они переживаются. Кем или чем они переживаются?
Они, очевидно, переживаются посредством отождествления того, что есть я, с тем, что не есть я, или, если хотите, тем, что не есть мы, иллюзорно отождествлённым с тем, что мы есть.
То, что мы есть, не знает боли и удовольствия. То, что мы есть как таковое, вообще ничего не знает, поскольку нет никакой объективной сущности, чтобы испытывать переживание.
Какими бы интенсивными ни казались ощущения, в сне проявленного они — следствия причин во временной последовательности, и вне временной последовательности, в которой они развиваются, они не являются ни причиной ни следствием.
Нет никого, кто мог бы страдать. Нам кажется, что мы страдаем, из–за нашего иллюзорного отождествления с феноменальным объектом.
Давайте, по крайней мере, поймём это.
То, что есть мы, неуязвимо и не может быть несвободно.
3. Гипотеза воли
I
Кажется, механизм жизни основан на предположении, что действия разумных существ — результат приложения воли со стороны каждого такого феноменального объекта. Очевидно, однако, что они скорее реагируют, чем действуют, и что их жизнь обусловлена инстинктами, привычками, модой и пропагандой. Их образ жизни в первую очередь — набор рефлексов, оставляющий ограниченные возможности для намеренного и обдуманного, то есть целенаправленного действия, которое при поверхностном рассмотрении может показаться результатом волеизъявления, или, что называется, волевого действия.
Тем не менее «воля» — лишь умозаключение, поскольку как бы мы ни искали, мы не сможем найти прилагающую её сущность. Всё, что мы сможем найти, — это импульс, который будет казаться выражением концепции «я». И было бы несправедливо заключить, что такой импульс способен повлиять на неумолимую цепь причинности или, другими словами, на процесс проявления, производящий видимые события, если только он сам не является элементом одного или другого.