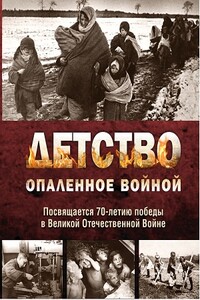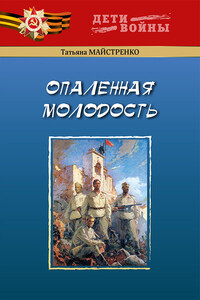Под прицелом войны | страница 43
Мог быть на папиной груди, оказывается, еще и орден Красной Звезды. Приехавший на позицию политрук уже оформил необходимые документы, но на обратном пути прямым попаданием снаряда его разнесло на части вместе с лошадью и бумагами.
– Как ни удивительно, – однажды стал размышлять отец, – за всю войну ни разу не болел простудными заболеваниями. Спал в сыром окопе, в снегу; мокнул под осенними проливными дождями. Холод, бывало, пронизывал до костей, вода хлюпала в сапогах – и ничего. Даже насморка серьезного не подхватил. А тут вот каких-то полтора месяца прожил в спокойной обстановке – и уже заработал ангину. Странно как-то получается! Хлеб замерзал зимой так, что не разрезать ножом, а человек выдерживал.
В боях под Ржевом папу ранило в последний раз.
– А не ранило бы, так убило, – спокойно пояснил он. – На передовой долго не жили.
Как ни дико это звучит, но ранение в той кровопролитной битве многие солдаты воспринимали как благо. Оно давало отсрочку от смерти.
После длительного лечения в стационарном госпитале (где-то на Урале, в глубоком тылу, куда обычно направляли тяжелораненых) он и вернулся домой. Насовсем. Медицинская комиссия признала его неспособным к дальнейшей службе.
Из военных былей отца запомнился еще эпизод с взятием «языка», хотя специалистом в этом деле папа не был. Какая-то срочная нужда заставила начальство послать в разведку артиллериста.
«Языком» оказался… немецкий повар. Он чистил и мыл картошку на берегу заболоченного озерка, не подозревая о засаде, а в перерывах пиликал на губной гармошке. Один из разведчиков подкрался сзади и оглушил его ударом пистолета по голове. Немца быстро «спеленали» и потащили на свою сторону. Пленник оказался рослым и тяжелым. Даже волоком тащить его было трудно.
Через какое-то время в немецком лагере заметили странность: кастрюля с картошкой возле воды стоит, близится ужин, а кормилец бесследно исчез. Открыли стрельбу по передовой, но было уже поздно.
О накале боев под Ржевом можно было судить даже по их послевоенным следам. Отец моего близкого товарища по работе доктора биологических наук Н. Ф. Ловчего тоже воевал (и погиб) в этих местах.
– В 1952-м году, после окончания третьего курса лесотехнического института, – рассказал Николай Федорович, – меня послали в те самые края проводить лесоустроительные работы. Местность болотистая, вязкая. Деревья – как будто подстрижены какой-то гигантской косой – многие макушки срезаны артиллерийским огнем. В самом лесу, как нас предупредили, еще полно снарядов и мин. Надо быть осмотрительным. Открытые пространства в перелесках, по которым могла двигаться пехота и танки, перегорожены спиралями Бруно. Они обросли зеленью, но по-прежнему были непроходимы. Работать поэтому разрешили только до двадцати часов, когда еще хорошая видимость. Дабы свести риски к минимуму. Параллельно с нами трудились саперы, обезвреживая оставшуюся взрывоопасную начинку.