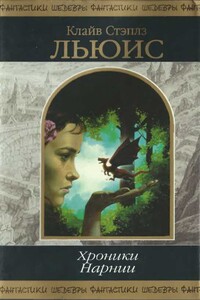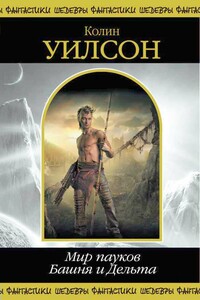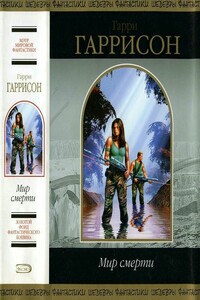Тёмный карнавал | страница 33
Затем неспешное свое мнение изложит Чарли. Иногда он скажет то же самое, что и всегда, иногда — что-нибудь другое. Не важно. Вечер за летним вечером рассказывай одну и ту же историю, и каждый раз она будет другой. Ее изменят сверчки. Ее изменят лягушки. Ее изменит нечто, глядящее из банки.
— А что, — сказал Чарли, — если какой старик ушел в болота, а может, и не старик совсем, а мальчишка, и он заблудился там, и шли годы, и он все не мог выбраться, и плутал ночами по всем этим тропинкам и канавам, топям и кочкам, и кожа его все бледнела, а сам он холодел и съеживался. В сырости и без солнца он так съеживался и съеживался, и стал совсем маленький, и упал потом в трясину, и так и остался лежать в болотной жиже, ну вроде как червяки или еще кто. И ведь как знать, может, это кто-нибудь всем нам знакомый, а если не всем, то хоть кому-нибудь из нас. Кто-нибудь, с кем мы перебрасывались словом. Как знать…
В дальнем конце комнаты — громкий судорожный вздох. Одна из стоящих в тени женщин мучительно подыскивает слова.
— Каждый год в это болото убегает уйма маленьких голеньких детишек. — Глаза миссис Тридден сверкают черным, антрацитовым блеском. — Они бегают там и бегают, и не возвращаются. Я и сама там раз чуть не заблудилась. Вот так я и лишилась своего сына, своего маленького Фоли.
Волна сдавленных вздохов, уголки плотно стиснутых ртов напряженно опустились. Головы, шляпки подсолнухов, повернулись на толстых стеблях шей, все глаза вглядываются в ее ужас и в ее надежду. Миссис Тридден, натянутая как струна, цепляется за стену скрюченными, судорогой сведенными пальцами.
— Мой маленький, — хрипло выдохнула она. — Мой маленький. Мой Фоли. Фоли! Фоли, это ты? Фоли! Фоли, маленький, скажи мне, это ты?
Все повернулись к банке и затаили дыхание.
Вещь, смутно белевшая в банке, хранила молчание и только слепо взирала на людей, одна на многих. И где-то в глубине крепких, ширококостных тел пробилась тайная струйка страха, первый ручеек весенней оттепели, и вскоре их непоколебимое спокойствие, и вера, и покорное смирение были подточены и изъедены этой струйкой, и растаяли, и унеслись бурлящим потоком. Кто-то закричал:
— Оно пошевелилось!
— Да нет, ничего оно не шевелилось. Тебе просто мерещится.
— Да вот же, ей-бо! — воскликнул Джук. — Я видел, как оно повернулось, медленно так, совсем как мертвый котенок!
— Да тише ты, тише! Мертвая эта штука, давным-давно мертвая. Может, еще с того времени, когда тебя и на свете не было.